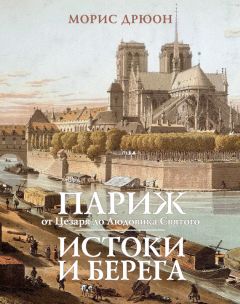В тот вечер, когда я присутствовал на церемонии, первыми словами кардинала-архиепископа были: «Мы забыли требник; без требника нельзя служить мессу, так что придется немного подождать».
Тут же один маленький священник (несомненно, виноватый в этом упущении и тем самым поставивший крест на своей карьере) скатился кубарем по сходням и, задрав сутану, помчался на поиски требника.
Путь от Марины до кафедрального собора не близкий. И чтобы скрасить ожидание толпы, уже добрый час торчавшей тут под открытым небом, кардинал без малейшего напряжения начал импровизировать не то чтобы проповедь, а настоящую речь о жизни святой Розалии, о добродетелях «сантуччи» — покровительницы Палермо, о богатстве и бедности, о счастье быть палермцем, о милостях, которыми Господь осыпает этот необыкновенный город и всю Сицилию, о нефти, что бьет из земли острова, о преимуществах автономии… Удлиняясь по мере задержки требника, речь постепенно превращалась в националистический манифест, вызывавший бурный восторг присутствующих. Даже если бы за священной книгой понадобилось ехать в Неаполь, кардинал-архиепископ смог бы проговорить всю ночь и следующий день. Завершил он свое выступление самым естественным способом в тот момент, когда маленький священник, еле дыша, подобно бегуну-марафонцу, поднялся, пошатываясь, на капитанский мостик.
«Ecco il messale, — провозгласил кардинал. — Вот требник, можно начинать».
И толпа разразилась аплодисментами.
И правда, странная месса, происходящая под грохот петард, стрельбу, доносящуюся из тиров с соседней ярмарки, крики продавцов семечек и прочий шум, который никоим образом не нарушает молитвенной сосредоточенности верующих. В кафе на пьяцце Марина оркестры играют «Жизнь в розовом свете» или последнюю неаполитанскую песенку, но это никого не смущает. Где-то там, держа перед собой на вытянутых руках шест, прогуливается по натянутой проволоке канатоходец, однако его сборы резко падают, когда кардинал меняет свою пурпурную мантию на тяжелое богослужебное одеяние. Церковь готовит великих актеров, способных перевоплощаться перед публикой в зависимости от роли, которую они играют.
Подъему религиозного духа аккомпанирует военный оркестр, исполняющий марш из «Аиды»; сидящие на плечах дети отбивают такт, хлопая ручонками по отцовской голове; заходится плачем младенец, и полицейские, сдерживающие толпу, рефлекторным движением смотрят на часы; многодетные отцы, как и все сицилийцы, они прекрасно знают часы кормления. Те же самые полицейские, раздавая походя оплеухи расшалившимся сорванцам, сейчас приоткроют запруду, пропуская вперед причастников. Почти все они мужчины, некоторые очень старые; маленький священник, тот, что забыл требник, выносит на пляж, к веревочному заграждению, гостию.
Кардинал утомлен, он идет передохнуть на корму колесницы. Месса окончена, но никто не уходит. Кардинал знает, что все ждут его выхода. Наконец он поднимается, подходит к лееру и произносит еще одну речь, заканчивая ее восклицанием: «Buon festino a tutti!»[19] Затем, огражденный от слишком настойчивого поклонения сильными руками полицейских, он под оглушительную овацию возвращается к своей машине, словно кинозвезда в день большой премьеры.
А к оркестрикам в кафе и к канатоходцу возвращаются зрители и слушатели. Но как съесть эти горы семечек?
Подсолнухи, арахис, арбузы и gelati — вот еда толпы, которой некогда ужинать. Потому что едва закончилась вечерня, в двухстах метрах от «сантуччи», в стороне порта, взлетела в небо первая ракета праздничного фейерверка. Гигантского фейерверка, стоившего городу тридцать миллионов лир, тридцать миллионов, потраченных на порох, на дым, на эти цветы из огня и грома. Полтора часа кряду дрожит земля, дрожат дома, дрожат ноги зевак. Беспрестанная канонада грохочет над городом, хранящим еще зияющие отметины, оставленные последней войной… Сказочные самоцветы, до которых не дотронуться рукой и срок жизни которых — одно мгновение, целый дождь из сапфиров, изумрудов, бриллиантов сыплется на головы этих изнуренных частыми беременностями и тяжелыми домашними заботами матерей, этих низкооплачиваемых поденщиц, невест, едва вышедших из детского возраста, этих вдов… ах, сколько там вдов!.. Кружатся над народом-мечтателем ослепительные галактики.
И все это происходит 14 июля. В полном соответствии с загадочными узами, соединяющими народы, фейерверк в Палермо, столице острова, где так хорошо помнят о Франции, устраивается в тот же день, что и в Париже. Но должен признать, наш по сравнению с этим выглядит бедным родственником.
Глядя на это чудовищное зарево, сицилийская толпа не кричит, не аплодирует, не издает этих криков показного ужаса, которыми у нас обычно сопровождаются всякие пиротехнические действа. Для жителя Палермо это буйство света — часть его обычаев, его традиций, а он привык трепетно относиться к тому, что принадлежит ему по праву. Безропотно сносит он перебои с водой, но вот если лишить его фейерверка, он может и взбунтоваться.
Наконец небо гаснет, ночь затихает и толпа — измотанная, на заплетающихся от усталости ногах — начинает расходиться в задымленном воздухе. Дети зевают, спят, мотая головой, на руках у родителей, в колясках мотоциклов, кузовах грузовых мотороллеров, на велосипедных рамах; они засыпают даже прямо на тротуарах, среди тысяч шаркающих ног. Еще два-три часа эта толпа, целую неделю служившая зрелищем сама себе, будет медленным потоком добираться до своих жилищ. Они действительно страшно устали, эти люди; они идут, будто толпа лунатиков, которым дали слишком много молитв, слишком много музыки, слишком много петард, чтобы утолить, исчерпать за один раз всю их жажду развлечений. Наверное, афиняне вот так же пресыщались театром за три дня Панафиней[20].
А завтра палермцы снова примутся за работу, снова будут есть скудную еду, спать в тесноте — и так целый год, до следующих праздников.
В каждом акте сицилийской жизни надо искать некую традицию, пережиток прошлого, принадлежащие какой-либо из древних цивилизаций. Обычаи на этом острове наслаиваются одни на другие, как религиозные культы, как камни, как власти, начиная с этой таинственной всеобщей цивилизации доисторических времен, оставившей нам по себе лишь монументальные каменные загадки и глиняные сосуды использовавшихся позднее форм.
Вот уже десять тысячелетий все валы Истории накатывают на этот берег.
Удивительный народ эти сицилийцы: их постоянно завоевывали, а они веками сожалели о предыдущем завоевателе; во времена римского владычества прославляли память тирана Дионисия[21], оплакивали Рим под византийцами и Византию под сарацинами; при норманнах они гордились своим арабским происхождением, а после завоевания Арагонским королевством мечтали о норманнах; они не переставали любить Францию после разгрома Сицилийской вечерни[22], хранили в сердце любовь к Испании, находясь под властью неаполитанских Бурбонов, и теперь неплохо чувствуют себя в составе Итальянской республики лишь после того, как лет десять назад обрели автономию.
Эта полунезависимость, похоже, прекрасно подходит Сицилии, чья экономика растет самым впечатляющим образом. Повсюду — от столицы до мелких поселений — идет строительство, возят камень, смешивают цемент, прокладывают новые дороги, возводят жилые здания. Течет нефть в Джеле и Рагузе. На верфях строятся суда. Гибкие, толерантные законы способствуют появлению новых промышленных предприятий. Растут резервные активы Банка Сицилии, который не скупится на инвестиции. На полях огромные молотилки вымолачивают знаменитую сицилийскую пшеницу, на которой зиждилось могущество Римской империи.
Этот народ снова в который раз завоевывает свою островную державу. Заработная плата здесь еще очень невысока, но уже значительно повышается уровень жизни. Сицилиец начинает богатеть, и, если чрезмерная рождаемость или новый исторический катаклизм не помешают этому росту, через каких-нибудь три десятка лет снова станет верной поговорка, которой во времена Дионисия отвечали человеку, похвалявшемуся своим достатком: «Все, что ты имеешь, не стоит и десятой части достояния любого жителя Сиракуз».
Путешественнику следует как можно скорее освободить сознание от ложных легенд, которыми овеян характер сицилийца. Не помню уже, где слышал вот такую шутку: «Жить стало бы проще, если бы мы перестали думать, что французы хорошо воспитаны, что жизнь в Англии комфортабельна, что немцы — люди слова, итальянцы ленивы, а американцы деятельны».
К этому списку ошибочных репутаций можно добавить и сицилийцев.
Сицилиец ни нервен, ни агрессивен; совсем наоборот, на улицах своих городов он выглядит потрясающе спокойным. Он вышагивает перед едущими машинами, обычно не один, а в плотной группе, даже не думая ускорить шаг, чтобы дать машине проехать; при звуке клаксона он и глазом не моргнет, ну а если ему все же случится вздрогнуть, по всему будет видно, что он расценивает это как непростительную слабость со своей стороны. Мальчуган или почтенный старик, сицилиец в любом возрасте считает поспешность чем-то постыдным; он скорее попадет под машину, чем унизится до того, чтобы поторопиться.