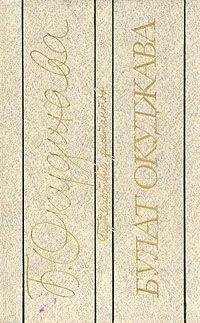– Господибожемой, куда мы едем?
– Вы едете ко мне, – с твердой решительностью сказал он. – Буду до конца бесцеремонным.
Протеста не последовало, наоборот, какой уж тут протест. Она лишь вскинула голову, чтобы незаметно мельком заглянуть ему в глаза.
– Какой странный, даже не спросил имя… Какие у него руки, горячие, господибожемой! Нет, нет, не убирайте… Да что это с вами? Не убирайте, я прошу вас… Долго ли нам ехать?… И печь, и чай с вареньем?! Господибожемой, это ему ничего не стоит!… И платье высушим?… Какой странный: затащил в трактир, чуть руку не вывернул, напоил водкой насильно, напустил на меня каких–то грязных чудовищ, а теперь обнял… и теперь тепло, и еще обещает чаем напоить… – Она счастливо засмеялась. – Да полно, уж не сон ли?… Ах, если бы грудь прикрыть от ветра…
Мятлев с поспешностью юнца обнял ее другой рукой.
– Какой странный, – засмеялась она, еще пуще к нему прижимаясь. – Даже не спросит, где я живу и не надо ли проводить меня домой… – Это она произнесла уже шепотом, и еще что–то вроде: самоуверенность, насилие, истязание, наглость…
Так бормотала, словно засыпая в железных объятиях счастливого Мятлева, двадцатидвухлетняя Александрина Жильцова, мало заботясь, куда ее может завезти наемная петербургская карета.
Ее отец, Модест Викторович Жильцов, был похоронен заживо средь толстых тюремных стен далекого Зерентуя после известного события на Сенатской площади в декабре 1825 года. Неумолимая судьба сыграла с ним злую шутку, разлучив его, безвинного, с молодой женой, двухлетней дочерью и спокойной, добропорядочной жизнью.
13 декабря 25 года, за день до печального происшествия, прикатил он в Санкт–Петербург из своего калужского далека хлопотать по имению, которому грозили всякие беды. Будучи человеком общительным и добрым и имея множество друзей среди гвардейских офицеров, с которыми еще недавно служил перед тем, как выйти в отставку, он не преминул тотчас же по приезде навестить их. Не застав некоторых из них дома, он перенес визиты на следующий день и как раз четырнадцатого декабря сел в сани и отправился по адресам. На Сенатской площади он вдруг увидел каре Московского полка, окруженное толпами любопытных. Решив, что это очередное построение или смотр, и разглядев среди офицеров, разгуливавших перед каре, старых своих знакомых, он выскочил из саней и бросился к ним. Когда же наконец, по прошествии некоторого времени он вдруг понял, что происходит, ибо, оторванный от всего в своей глуши, не мог предполагать ничего подобного, было уже поздно. Войска, которыми предводительствовал сам молодой император, окружили каре. Жильцов в ужасе перед происходящим успел кинуться прочь и благополучно добрался до гостиницы с одной–единственной мыслью побыстрее уложиться и на утренней заре гнать обратно в имение. И он действительно уложился, но покинуть столицу опоздал. Кто–то его увидел, кто–то сообщил, пошли слухи, и за ним явились. Видя в том несчастное недоразумение, Жильцов не спорил, надеясь на быстрое разбирательство. Его препроводили на гауптвахту, где он очутился в соседстве с незнакомым ему интендантом, также арестованным в связи с событиями. Через два дня интендант был приглашен для допроса, а возвратился сияющий и возбужденный. Оказалось, что его дело счастливо завершилось, ибо, как он рассказывал, выложил чистую правду, а те, мол, что пытались выкручиваться и оправдываться, о судьбе их даже страшно подумать.
– Так моя чистая правда – это полное неведение, – сказал, улыбаясь, Жильцов.
– Э–э–э, батенька, – засмеялся интендант, – все запираются, сказываясь несведущими. А запирательство знаете чем грозит?
Действительно, на следующий день интенданта выпустили, а Жильцова повезли допрашивать. Конечно, он и не думал по врожденной порядочности и благородству отрицать, что в злополучный день оказался среди мятежников, так ведь это вот как получилось. Его попросили назвать имена знакомых офицеров, и он простодушно и даже с радостью их перечислил, ибо их все видели, а молчание могли расценить как запирательство.
– Имели ли вы сами когда–нибудь случай высказываться неодобрительно в адрес нынешних законоположений? – спросили его.
– Никогда! – с ужасом выкрикнул он.
Тогда его отправили обратно на гауптвахту, посоветовав ему не запираться, а, напротив, все тщательно припомнить, описать и тем самым облегчить свою участь.
Он пометался по своей тюрьме, пострадал, попричитал, размышляя о своей молодой жене, проклиная день, когда решился ехать в Петербург, который схватил его, безвинного, неумолимой пятерней, и принялся писать, припоминая все, что когда–либо думал о различных преобразованиях, которые помогли бы его отечеству еще более расцвесть. Признание было отправлено, и о нем позабыли.
В течение долгих месяцев он напряженно ждал, что вот–вот за ним явятся, чтобы объявить ему о полной его невиновности, и представлял, как будет все это рассказывать и объяснять своей жене, которой он никак ничего не мог сообщить и которая, по всей вероятности, была в полнейшем отчаянии.
Наконец наступило лето, и в комендантском доме Петропавловской крепости он с ужасом узнал, что лишен дворянства и осужден на долгую каторгу.
В течение нескольких дней после сентенции он пребывал как бы не в себе: никого не узнавал, к еде не притрагивался, разговаривал сам с собой и все время ходил из угла в угол, потеряв сон.
Его молодая жена, кое–как сводя концы с концами в маленьком имении, заложенном и перезаложенном, узнала наконец о судьбе, постигшей ее несчастного супруга, и пришла в сильное расстройство, так что уже никакие доктора и никакие снадобья не могли вернуть ей прежнего здоровья.
Заботы и хлопоты по воспитанию маленькой дочери еще придавали ей сил, а с мыслью о том, что он действительно тайно от нее участвовал в заговоре и теперь должен расплачиваться за тяжкие свои грехи, с мыслью этой она кое–как примирилась. Теперь она жила ради маленькой Александрины, стараясь дать ей приличное образование, как ни была стеснена в средствах.
Так пролетело несколько лет, как вдруг от него пришло предлинное письмо, и не официальной почтой, а переданное через десятые руки и, таким образом, миновавшее бдительные очи цензуры. И тут она узнала, как все воистину случилось с ее несчастным мужем и что он пострадал невинно и теперь, невинный, осужден на такие нечеловеческие муки. И это, и сознание собственной беспомощности перед лицом государства с его запутанными и сложными делами и намерениями – все это явилось последней каплей. В несколько дней она угасла. Имение вскоре было продано за долги, Александрину взяла в Москву дальняя и единственная родственница их семьи, и девочка начала новую жизнь, все время помня об отце, о котором столько слышала от матери, и мучительно надеясь на скорое его возвращение.
В Москве ей жилось неплохо. Ее жалели и многое ей позволяли. Она была несколько замкнута, но зато пристрастилась к серьезному чтению, любила музыку. У родственницы в доме проживал родной племянник, единственный ее наследник, милый юноша, студент университета. Шестнадцатилетняя Александрина внезапно и пылко влюбилась в него. Он отвечал ей взаимностью, и все бы, верно, сложилось хорошо, когда бы потерпеть злым силам и дать возможность молодым людям созреть и окрепнуть для совместного счастья, но отвратительный рок, облюбовавший себе семью Жильцовых, даже в московской неразберихе и суете нашел свою жертву. После каких–то происшествий в университете несколько студентов, в том числе и возлюбленный Александрины, были отданы в солдаты. Спустя месяц на Кавказе в очередной перестрелке с горцами он был сражен насмерть, и Александрина в отчаянной откровенности призналась, что ждет ребенка. Случилась буря. Отношения с родственницей были порваны. Девушке было предложено покинуть дом, ибо ее поведение было расценено как посягательство на наследство.
Гордая Александрина хлопнула дверью, имея при себе небольшой сундучок с нехитрым скарбом и горькие воспоминания. Идти было некуда. Накрапывал холодный осенний дождь. Лишиться всех надежд и крова в шестнадцать лет – могло ли быть что–либо ужаснее? Она решила дождаться вечера, а дождавшись, торопливо побежала к Москве–реке по не менее торопливым и неоригинальным следам многочисленных своих предшественниц.
Неизвестно, можно ли было считать это счастьем, но чья–то сильная рука помешала ей осуществить трагическое намерение. Человек, спасший ее, оказался профессором медицины. Он дал ей выплакаться, девичье горе недолговечно, и вот перед ней, как по мановению волшебной палочки, открылась дивная страна. Профессор был вдовец, уже не первой молодости. Он жил в хорошей квартире на Пречистенке со своей маленькой дочерью. Им прислуживали горничная и кухарка. Он предложил Александрине поселиться в его доме, где у нее будет своя комната и все права члена семьи. За это она должна была заниматься с его дочерью музыкой и французским языком. После того как она уже стояла на пороге смерти, это предложение показалось ей столь неправдоподобным в этом суровом мире, что за него следовало платить только своей жизнью. Однако мысль о том, что она не призналась ему в главной своей тайне, вынудила ее отказать ему. Он не отступился. Он принял ее отказ, но все–таки уговорил Александрину поехать к нему хотя бы на сутки, чтобы привести себя в порядок, а там уж что бог даст. Она была в таком состоянии, что не воспользоваться этой возможностью было бы глупо. И она согласилась.