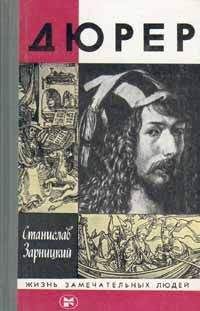А язык! По нескольку раз перечитывал Дюрер отдельные стихи, которые запоминались сами собой. Через два-три дня он уже делал первые наброски. Работа спорилась. Спешил так, как никогда в жизни. Работая над одним сюжетом, обдумывал план другого, недоделав первый рисунок, хватался за второй, третий, четвертый…
Быстрота, с которой Дюрер создавал гравюры, пугала Бранта. По собственному опыту он знал, как опасно это постоянное напряжение всех сил, ибо очень часто дело кончалось тем, что ум и фантазия тупели задолго до завершения начатого. Он бормотал свои стихи о торопыгах. Не помогало. А через некоторое время Брант стал замечать — его иллюминатор начинает творить свою собственную поэму в рисунках, порою не имеющую ничего общего с авторским замыслом. Словно вознаграждая себя за то, что слишком долго ему приходилось выполнять желания других, Дюрер теперь полностью отдался фантазии. Искренне удивлялся: а разве этого нет в рукописи? Он же слышал собственными ушами, как Себастьян читал об этом. Да, читал, но потом выбросил. Брант сердито пыхтел, садился переделывать стихи, подгоняя их под рисунки Дюрера. Выходил из себя. Нет, так дело не пойдет. Кто здесь автор? В бешенстве забрасывал в дальний угол скомканные листы рукописи, начинал бегать по комнате, бранясь, как ландскнехт. Разъярившись, в свою очередь, художник стрелой вылетал в двери.
А назавтра как ни в чем не бывало Альбрехт снова приходил к Бранту и приносил новый рисунок. В конце концов поэт приспособился: прежний текст сохранял в неприкосновенности, но дописывал к нему вступление, в котором пояснял основную мысль гравюр Дюрера. Брант ныл, жаловался, что не может избавиться от бессонницы. Еще один такой месяц, и придуманный им корабль отвезет их самих в страну сумасшедших.
Бергман видел — к осенней ярмарке ему с «Кораблем» никак не поспеть, но все-таки подгонял обоих авторов. Пришлось Альбрехту вопреки своему желанию принести в типографию с дюжину сделанных рисунков. Сидел в это время у Бергмана Михаэль Фуртер, известный базельский гравер. Ему печатник и показал Альбрехтовы работы. Фуртер долго их изучал. Затем многозначительно посмотрел на Бергмана. Этот взгляд, в котором было и восхищение, и удивление, красноречивее всяких слов сказал: сделаны гравюры первоклассно. Теперь у Бергмана появилась еще одна забота — задержать Дюрера на возможно большее время в Базеле. Обращаться к Шонгауэру с просьбами отложить отъезд было бесполезно. Тот уже не раз на подобные обращения заявлял: молодой художник — человек свободный, когда захочет, тогда и уедет. Из-за одной вредности поступит как раз наоборот. Поэтому нарушил Бергман все обычаи и дал подмастерью ученика, будто мастеру. Выбрал Дюрер Гейнца, который, по его мнению, мог бы завершить задуманное им. Засиживались за полночь. Вместе доделывали начатое, вместе бились над новыми рисунками.
Помощь Гейнца тем более оказалась кстати, что получил Альбрехт еще одно письмо от отца. Дюрер-старший был в гневе: сын не только не прислал своего портрета, но и вообще не соизволил выразить никакого отношения к невесте. Пришлось отложить в сторону все, сесть перед зеркалом. Бергман расщедрился, подарил лист пергамента. Нет, не собирался Альбрехт изображать себя в робе ремесленника, не собирался он ставить себя ниже какой-то там Агнес Фрей с ее знатными родителями. Подумаешь — дочь купца и патрицианки! Разве он, художник, не отмечен печатью божьего дара — таланта?
Было потеряно несколько драгоценных дней, но автопортрет вышел именно таким, как хотелось. С поразительной точностью выписано лицо юноши. Оно еще не тронуто невзгодами. Рыжие локоны тщательно расчесаны, словно гребень бойцового петуха, задорно сидит на голове красная шапочка. Мускулистый торс обтянут шелковой рубахой, расшитой золотом. Не ремесленник взирал на зрителя, а гордый молодой патриций. В угоду Агнес нарисовал в своих руках веточку чертополоха — символ мужской верности. Георг был первым критиком. И первыми его словами были: не высоко ли он метит?
Разделавшись с автопортретом и отправив его с оказией в Нюрнберг, Дюрер снова набросился на гравюры к «Кораблю дураков». Вот этой работой он действительно мог гордиться. Ничего ни у кого не позаимствовал, все создал сам. Когда зашел в типографию к Бергману проститься — попросил еще раз показать ему доски. Выстроились они, словно ландскнехты на смотру. Сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят… Рассматривал их Дюрер, и грустно становилось на душе, будто навсегда прощался с чем-то дорогим и любимым. Теперь, когда гравюры были завершены, он ясно видел все их достоинства и недостатки. Но вместе с тем понимал и то, что в работе над ними создал собственную манеру. Невозможно было спутать их с гравюрами ни одного из известных ему мастеров. Они были только его и больше ничьи. Иллюстрируя труд Бранта, перешагнул он рубеж, отделяющий подражателя-подмастерья от самобытного художника.
А потом все вместе сидели в трактире — и Брант, и Амербах, и Бергман, и Шонгауэр. Пялили на них глаза из-за всех столов: Дюрер теперь стал знаменитостью. Молва о его гравюрах к поэме Себастьяна успела обежать базельские улочки. Брантовы студенты и Бергмановы подмастерья рассказывали всем, кто хотел слушать, как Дюрер, отказавшись от еды и питья, а заодно и от сна, за месяц — ну, может быть, чуточку больше — создал восемьдесят гравюр, равных которым в мире еще поискать — большую часть иллюстраций к поэме.
Похвал в тот вечер выслушал Альбрехт немало. Обычно молчаливые мастера сейчас на слова не скупились, жалели, что покидает он Базель, однако добавляли, что остается здесь его труд примером для подражания и что будут впредь на этом примере учиться многие. Так, по крайней мере, несколько раз сказал во всеуслышание Бергман, преподнесший в дар своему бывшему подмастерью новый набор инструментов для изготовления гравюр, самый лучший, какой только можно было разыскать в Базеле. И Бергман и Амербах — оба в один голос заявили: если будет ему плохо в других местах, пусть возвращается в Базель — двери их типографий всегда открыты для него.
Пасмурным осенним утром 1493 года по пустынным базельским улицам надрывно проскрипели повозки, увозившие так и не распроданный скарб золотых дел мастера Георга Шонгауэра. Итак, на север! Георг тянулся за своим счастьем. А вот Альбрехт Дюрер отправлялся на поиски неизвестно чего. Вглядывался, прощаясь, в еще спящие окна домов и не мог отделаться от чувства, что его-то счастье остается здесь.
Может быть, Страсбург и понравился бы Альбрехту, если бы…
Лил непрерывно противный ноябрьский дождь. А им пришлось битый час ругаться с владельцем постоялого двора, пока тот не согласился найти для них место и не разрешил милостиво перетащить под навес промокшее насквозь имущество.
Хотя помещение для мастерской они нашли легко, однако никто не поспешил к ним с заказами — привыкли доверять своим мастерам. Деньги таяли. Плюнул Альбрехт на все и отправился обивать пороги местных типографий, но везде один ответ: гравер не требуется, свои мастера есть. Страсбургский печатник Иоганн Грюнингер никак не мог понять: почему это он отправился искать счастья в Страсбург, когда здешние художники спят и во сне видят Базель? В конце концов получил Дюрер от Грюнингера заказ на две гравюры — распятие Христа и голова Спасителя в терновом венце. Все свое умение вложил в их исполнение. Хвалил мастер Иоганн его работу, но на этом сотрудничество и кончилось.
А хозяина нужно было искать срочно. Пал окончательно духом Георг, стал невыносимым. Брант советовал правильно: надо от Георга уходить. Не так просто разорвать связавшую их нить, но все-таки решился. Снова пошел к Грюнингеру — возьмите, ради бога. Не день и не два надоедал мастеру Иоганну. Дарил привезенные из Базеля рисунки и гравюры. Грюнингер подарки брал. Потом уже и дарить стало нечего. Тогда предложил Дюрер написать портреты хозяина типографии и его дородной супруги — разумеется, бесплатно. Во имя обстоятельств пришлось поступиться принципом — изображать все так, как в жизни. Приукрасил обоих. Угодил и, распрощавшись с Георгом, перебрался к Грюнингеру.
Получилось весьма нескладно: через несколько дней свалила его с ног болезнь — почти на всю зиму. На месте Грюнингера другой бы его на улицу выбросил, а Иоганн даже доктора приглашал раза два. Пытался Альбрехт не быть ему в тягость, Как только боль отпускала, обматывал голову мокрым полотенцем, хватался за работу. Правда, толку было мало: из рук все валилось. В один из таких дней изобразил самого себя. На голове — полотенце, в глазах — боль и ужас, щеки ввалились.
О Нюрнберге теперь вспоминал часто. Вернуться бы на берега тихого Пегница, в родительский дом! Даже предстоящая свадьба с девицей Агнес не представлялась трагедией. А что здесь страшного: осядет в Нюрнберге, начнет самостоятельную жизнь…