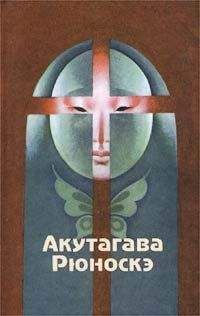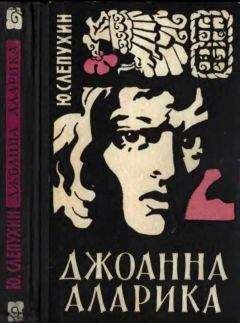Новости, новости, новости…
В первый день учебного года они сидят за блестящими партами, обмениваясь летними впечатлениями, бродят группками по коридорам, пахнущим мастикой для полов и свежей побелкой, листают новенькие, тугие еще учебники, знакомятся с новыми преподавателями — и не знают, что в эти часы на мир уже обрушилась самая страшная из новостей. Свинцовый ветер уже метет по дорогам Польши, но в Энске еще ничего не известно. В одиннадцать часов утра, когда немецкие пикировщики прямым попаданием обрушивают первый забитый беженцами мост через Варту, в 46-й энской школе идет большая перемена. Людмила откомандирована в буфет, а Таня сидит с Иришкой Лисиченко на скамье под пронизанными солнцем каштанами и, таинственно понижая голос и блестя глазами, рассказывает, как лейтенант Виген Сароян пил за ее здоровье вот из такого рога и как ей на другой день досталось в лагере за ту поездку.
Вторая мировая война уже началась, но Танины одноклассники пока ею не затронуты. Даже вечером, прослушав выпуск последних известий, они не придадут особого значения тому, что произошло в этот день в Польше. Они привыкли, что в мире всегда что-то происходит, чуть ли не каждый год. Если не в Абиссинии, то в Испании; если не на Хасане, то на Халхин-Голе…
Впрочем, на этот раз дело становится серьезным. Проходит еще два дня, и в войну вступают Англия и Франция — империалисты и поджигатели. На общешкольном собрании комсорг Леша Кривошеин объясняет, почему именно на англо-французских империалистах лежит вина за случившееся.
Каждый день, перед началом уроков и на переменках, мальчишки яростно переживают оперативные сводки — немецкие, английские, французские, польские. Взята Лодзь, в районе Кутно окружены десять польских дивизий, немецкие Ю-87 бомбят военные объекты в Северной Франции. Словно перед интересным матчем, вся мужская половина школы разделилась на спорщиков — кто кому наклепает. Таня на этот раз держится от них в стороне; ее вдруг почему-то перестали интересовать эти мальчишки с их спорами и их нелепыми затеями; сейчас они кажутся ей просто глупыми, и это тоже новость. Игорь Бондаренко — задавака противный! — первым в классе начал носить великолепный пробор, намазывая волосы бриллиантином. Некоторые преподаватели уже говорят девочкам «вы», и к этому никак нельзя привыкнуть, — всё кажется, что это относится вовсе не к тебе.
Вообще, ко многому трудно привыкнуть в этом сумасшедшем месяце — сентябре тридцать девятого года. Трудно привыкнуть к тревожному слову «война» в газетах, к ощущению себя девятиклассницей, к тому, что в «Энской правде» напечатали статью про Дядюсашу, где сказано, что «майор Николаев принадлежит к числу знатных людей нашего города»; трудно привыкнуть к телеграммам, к телефонным звонкам бесчисленных Дядисашиных знакомых, справляющихся, не вернулся ли герой; трудно привыкнуть к ослепительной школьной славе племянницы человека, чей портрет повесили в пионерской комнате над макетом танка, — и к тому, что через несколько дней тебе исполняется шестнадцать лет…
Одиннадцатого, накануне своего дня рождения, Таня просидела весь вечер одна, не зажигая света, и на сердце у нее было тревожно, радостно и грустно от мысли, что вот прожита первая половина жизни (с завтрашнего дня нужно начинать хлопоты о паспорте, а с паспортом в кармане человек не может не чувствовать себя старым) и теперь начинается вторая — уже закат, спуск под горку. Это было печально до слез — сидеть вот так перед открытым окном в темной и пустой квартире, слушать автомобильные гудки в смех на бульваре и смотреть на высокую звезду, чистым неземным огнем дрожащую прямо над темным куполом здания обкома. Вечер был тих и прозрачен, недавно прошел короткий «слепой» дождик, и сейчас чудесно пахло мокрой листвой каштанов, прибитой пылью и просыхающим теплым асфальтом.
Таня смотрела на звезду и думала о чудесной и фантастической жизни далеких обитателей этой голубой планеты — а потом наверху, у Голощаповых, патефон заиграл «Ирландскую застольную». Затаив дыхание, вслушивалась она в серебряные переливы рояля, в голос певца, так удивительно выразивший вдруг ее собственное настроение. Полный легкой и просветленной грусти голос рассказывал о метели, роями белых пчел шумящей за окнами, о тесном круге друзей, о том, как огнями хрусталя светится любимый взгляд, — и о том, что за дверьми ждет смерть…
…миледи Смерть, мы просим вас
За дверью обождать… -
услышав эти слова, всегда приводившие ее в трепет, Таня легла щекой на подоконник и заплакала слезами такими же легкими и светлыми, как переполнившая ее сердце бетховенская музыка.
Закатная половина ее жизни началась, в общем, не так плохо. Утром — бывают же такие счастливые совпадения! — от Дядисаши пришли сразу письмо и посылка. Посылка ее удивила — что это может быть? — и она, читая письмо, машинально ощупывала загадочный мягкий пакет. Письмо было, как всегда, коротким — один листок, с обеих сторон исписанный твердым крупным почерком без наклона. Дядясаша поздравлял ее с днем рождения и выражая надежду, что вещица, отправленная им две недели назад, уже получена и одобрена. Возможно, писал майор, письмо это вообще опоздает, так как он сам надеется скоро быть дома. Если успеет вернуться до двенадцатого, то уж шестнадцатилетие они отпразднуют на славу, как и полагается праздновать великие события. В конце шли обычные вопросы относительно здоровья, времяпрепровождения и школьных дел.
При мысли о скором — может быть, даже сегодня! — возвращении Дядисаши Тане от радости захотелось стать на голову, но она вспомнила о пакете с загадочной «вещицей». Вооружившись ножом и закусив губу от нетерпения, она вспорола обшивку, разодрала оберточную бумагу и тихонько ахнула. В глаза ей блеснуло что-то золотое и зеленое. Подарок оказался китайским халатиком — настоящим, из чудесного ярко-зеленого шелка, по которому клубились золотые с чернью драконы, один страшнее другого.
Несколько минут она простояла перед зеркалом, не веря своим глазам. Ой — Люся когда увидит…
Справедливость требует сказать, что предстоящему приезду майора Таня обрадовалась все же больше, чем китайскому халатику. За лето она порядочно соскучилась по своему Дядесаше, а теперь, с наступлением школьных будней, одиночество стало особенно неприятным. Как назло, загостилась в Днепропетровске мать-командирша. Раечка уходила к шести, и на целый вечер Таня оставалась совершенно одна.
Очень страшно было по ночам — она прятала лицо в подушку, плотнее укутывала одеялом уши и лежала, боясь пошевелиться. Этой боязнью темноты Таня страдала с детства, и от нее не спасало ни ощущение себя девятиклассницей — почти-почти студенткой! — ни новые толстые учебники, от которых лопается по швам старенький портфель, не рассчитанный на такое количество премудрости. Она знала очень хорошо: от ночных страхов спасает только Дядясаша (так же, как когда-то в Москве — Анна-Сойна). Когда он похрапывает у себя на диване, темнота не кажется такой угрожающей, она становится почти уютной.
Двенадцатого она весь день сидела дома, нарядная и торжественная, дочитывала «Войну и мир» и ждала поздравлений. Впрочем, из всего класса позвонили только две девочки; Таня была разочарована и немного обижена. Забежала Раечка — уже три дня она не работала, готовилась к свадьбе, — придушила ее в объятиях и подарила дешевые красные бусы.
В половине четвертого пришла Люся с букетом белых астр.
— Поздравляю, Танюшка! — сказала она, передавая Тане цветы. — Ого, какая ты сегодня хорошенькая и аккуратная, прямо пионерка с плаката…
— Ну, ты скажешь, — скромно возразила Таня, — я всегда такая.
— Оптимистка! В первый раз в жизни вижу у тебя хорошо заплетенные косы. Кто плел?
— Жена одного капитана на пятом этаже… ой, Люсенька, что у меня есть! Хотя подожди — знаешь, наверно скоро приедет Дядясаша, может быть даже сегодня! Представляешь? Вот уж мы попируем… а когда придут остальные?
— Ты знаешь, Танюша, — сказала Людмила, — тебе сегодня не повезло. Нет, правда, такая неудача! У Жени вчера вечером заболела мама, и ей теперь приходится сидеть с братиком. А эту Громову ты вообще напрасно приглашала, я же тебе говорила. Она ушла с мальчишками в кино, а мне знаешь что сказала? Я, говорит, никак не могу, у меня после кино кружок юннатов и нужно кормить амблистому — ее, говорит, без меня не сумеют покормить. Как будто это так уж трудно — покормить какую-то несчастную ящерицу!
— Ничего, Люсенька. Я ей припомню, паразитке, — со зловещим спокойствием отозвалась Таня, ставя цветы в банку из-под варенья.
— Татьяна! — Людмила выдержала возмущенную паузу. — Сколько раз я запрещала тебе употреблять это слово?
— Люсенька, я его вовсе не употребляю, но Громова все-таки самая типичная паразитка. Еще хуже, чем эта ее возлюбленная амблистома…