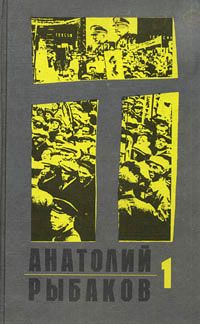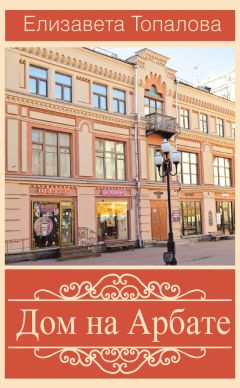– Буду на бюро, добавлю что надо, – пообещал Малов.
Возвратившись с завода, Саша увидел в дырочках почтового ящика синий конверт. Письмо от отца, его почерк. Никогда эти письма не приносили радости. Отец просил выслать технологические справочники. «Они лежат на нижней полке шкафа, ты, наверно, знаешь, где нижняя полка. Я бы не посмел обременять тебя такой просьбой, но больше мне просить некого. А ехать за ними в Москву… Мой приезд никому не доставит удовольствия».
Это был голос отца, так он всегда разговаривал. Когда мама спрашивала: «Будешь обедать?» – он отвечал: «Могу не обедать». – «Ты идешь на заседание?» – «Я иду танцевать…» Глуховатый, он недослышивал, думал, что говорят про него, ругался. Ругался, не получив яблока утром или стакан простокваши на ночь. Мать немела от страха, едва заслышав его шаги в коридоре, он возвращался с работы уже заранее недовольный домом, женой, сыном, готовый сделать замечание, выговор, учинить скандал.
Мама не боялась его, только когда ревновала. Сашино сердце изнывало от того, что творилось тогда в доме: от криков, хлопанья дверьми, от злого, кроличьего выражения маминого лица, ее плача.
Отец уже шесть лет не жил с ними. А она по-прежнему боялась его даже на расстоянии. И сейчас при виде письма у нее снова на лице появилось знакомое и тягостное выражение тревоги и страха.
– От папы?
– Просит прислать справочники.
С тем же испуганным лицом Софья Александровна взяла письмо, и выражение испуга не исчезло, пока она его не прочитала.
Сашу больше всего страшила мысль о том, что будет с мамой, когда она все узнает. И он вел себя так, чтобы она ничего не узнала. Уходил из дома, делая вид, что едет в институт. Декабрьскую стипендию заработал, разгружая вагоны на Киевской-Товарной. Когда некуда было деваться, шел к Нине Ивановой.
Она дала ему ключ от квартиры, и по утрам он там читал или занимался. Потом из школы приходила Варя, младшая сестра Нины, в темном пальто, в крошечных туфельках, платок она снимала по дороге, прямые черные волосы спускались на воротник. Она садилась на кровать, перекидывала ногу на ногу, вытягивала пухлые губы, сдувая челку со лба, и смотрела Саше в глаза тем взглядом, каким красивые девочки смущают мальчиков.
Стол под облупившейся клеенкой делил комнату на две половины: половину Нины с книгами и тетрадями, разбросанными на столе, со стоптанными домашними туфлями под кроватью и половину Вари с яркой косынкой на подушке, патефоном на подоконнике и бронзовым атлетом с лампочкой в вытянутой мускулистой руке.
– За что тебя из института выгнали?
– Восстановят.
– Я бы их всех самих исключила, у нас в школе тоже есть такие сволочи; только и смотрят, кого бы угробить. Вчера у нас было классное, Лякин говорит: «Иванова пишет шпаргалки на коленках». Я ноги вытянула и спрашиваю: «Где шпаргалка?»
Она вытянула ноги, показывая, как сделала это в классе.
– А Кузя, математик, покраснел как помидор: прекратите, Иванова! А я при чем? Ведь это Лякин. В прошлом году хулиганил, отнимал у девчонок портфели, а теперь в учкоме. Сам скатывает, а на других ябедничает. Терпеть не могу таких.
– Как же ты делаешь шпаргалки?
– Очень просто, – она похлопала по коленкам, обтянутым нитяными чулками, – напишу чернильным карандашом и скатываю.
– А без шпаргалки не можешь?
– Могу, но не хочу.
Она смотрела на него с вызовом, этакая козявка, сидит с открытыми коленками. Саше было смешно, но он старался быть серьезным, знал, сколько хлопот доставляет Варя сестре.
Девочки выросли без отца, потом умерла и мать. Саша помнил заседание бюро – они обсуждали, как помочь Нине воспитать сестру, выхлопотали пенсию, утвердили Нину платным вожатым. Потом окончили школу, разошлись, и вспомнил он о Варе, увидев ее уже в подворотне с такими же, как она, подростками.
– Ты комсомолка?
– А зачем?
– Лучше в подворотне стоять?
– Мне нравится.
– Дома не ночуешь.
– Ха-ха! Один раз заночевала у подруги на даче, боялась на станцию идти. Нинка бы тоже ночью не пошла. Она еще больше трусиха, чем я, во сто раз. Выходила бы за своего Макса, ничего не умеет, а Максу ничего и не надо, будут ходить в столовую.
– Тебе не рано давать такие советы?
– Пусть не лезет в мои дела. Шумит, а толку чуть.
– Кем ты хочешь быть?
Вместо ответа она запела высоким детским голоском:
Цветок душистых прерий,
Твой смех нежней свирели,
Твои глаза как небо голубое
Родных степей отважного ковбоя…
В коридоре раздался звонок.
– Нинка пришла, – не двигаясь с места, объявила Варя, – опять ключи забыла.
– Откуда ты знаешь, что она?
– Я знаю, как каждый жилец звонит.
Вошла Нина, увидела Варю на кровати в позе, которую сочла неприличной, увидела ее открытые колени, и началось:
– На уме мальчики, лак для ногтей, губная помада морковного цвета, разбирается. Часами сидит перед зеркалом и загибает ресницы кухонным ножом.
– Ножом? – удивился Саша.
– Или висит на телефоне, только и слышишь: крепжоржет, вельвет, красное маркизетовое, голубое шелковое… Я пять лет носила одну кофточку, каждый день ее стирала и до сих пор не знаю, из какого она материала. А сестрица моя три дня бегала по магазинам, искала пуговицы к платью. Галош не признает, валенки презирает. Украла у меня туфли, стоптала на танцах, потом подбросила в ванную. Сегодня туфли, завтра стащит деньги, а так как денег у меня нет, пойдет воровать.
– Не пугай! – сказал Саша. – Не пугай себя и не пугай ее.
Но Варя не пугалась. Притворно зевнула, сделала скучающие глаза – слышала все это, слышала сто раз.
– Меня поражает ее жестокость. Смеется над Максимом. Разве это ее дело? Низко, бестактно.
– У Макса невеселый вид, – дипломатично заметил Саша. У Нины потемнели глаза.
– Я ценю Макса, прекрасный, чистый парень. Но о чем я могу думать? Я вот это должна еще поставить на ноги.
– Пожалуйста, не сваливай на меня, – сказала Варя.
– Поручили выпустить стенгазету, – продолжала Нина. – Она пошла в соседний класс и списала там номер от слова до слова, даже фамилии поленилась изменить. К чему она придет, что ее ждет?
Варя нащупала ногой туфли, встала.
Цветок душистых прерий,
Твой смех нежней свирели…
В райком Саша шел спокойно. Вот инстанция, которая не побоится все решить. Вести заседание будет первый секретарь Столпер.
Саша долго сидел в коридоре, дожидаясь, пока его вызовут. За дверью слышались голоса, обрывки выступлений, но всех перебивал, обрывал, останавливал высокий, резкий голос. Испуганные люди выскакивали из кабинета, бежали к шкафам, хватали папки, высокий, раздраженный голос несся им вдогонку. Саше нравилось, что Столпер гоняет этих чиновников. Так он будет гонять и Баулина, и всех, кто приклеил ему, Саше, ярлык врага.
Дверь приоткрылась.
– Панкратов!
Народу собралось много, люди сидели вдоль стен и за длинным столом, покрытым зеленым сукном. Столпер, худой человек со злыми, усталыми глазами, хмуро посмотрел на Сашу, кивнул Зайцевой:
– Докладывайте! И покороче.
Зайцева голосом аккуратной ученицы огласила материалы дела. Когда она читала эпиграммы, кто-то засмеялся. Эпиграммы звучали глупо. Потом Зайцева сказала, что эти факты должны рассматриваться в связи с главным.
И тут Саша впервые услышал, что Криворучко – бывший участник оппозиции, какой именно, Саша не понял. Зайцева упомянула Одиннадцатый съезд партии, «рабочую оппозицию», затем коллективное письмо в ЦК партии, подписанное и Криворучко, что это за письмо, Зайцева не сказала. Потом она сообщила, что в свое время Криворучко исключали из партии за то, что не порвал связи. Какие это связи, с кем, когда, тоже не сказала, только добавила, что в партии его восстановили, но объявили выговор. Потом еще один выговор он получил за засоренность железной дороги социально чуждыми и классово враждебными элементами. Что за дорога и кем был на ней Криворучко, Зайцева тоже не сказала. И вот опять исключен, на этот раз за срыв строительства. Хотя список исключений и выговоров был в личном деле Криворучко, Зайцева говорила так, будто это она его вывела на чистую воду, сама потрясенная тем, что ей удалось обнаружить человека, замешанного в преступлениях, о которых она знала из учебников.
Слушая Зайцеву, Саша понимал, что дело Криворучко вовсе не так просто. Над Криворучко тяготеет прошлое. Саша не мог понять только, какое отношение это имеет к нему лично.
Столпер взял Сашино дело, перелистал. Все молчали. Только слышался быстрый шелест раздраженно перекидываемых страниц.
– Что у тебя творится, Баулин?
Баулин встал, резко проговорил:
– Криворучко исключен нами из партии.
– Общежития не построил, – подхватил Столпер, – а эта его работа, – он ударил ладонью по папке, – проглядели? Спохватились, когда они выпустили антипартийный листок.