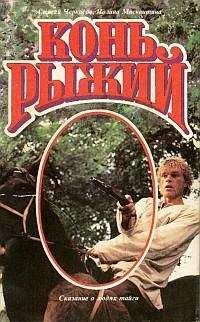Особенно возрадовались тополевцы. Прокопий Веденеевич воспрянул духом и созвал единоверцев на молебствие, как в престольный ильин день.
– Свершилась воля твоя, господи! – ликовал духовник, простирая руки к небу. – Да придет на анчихристов-красных месть Каинова, Исавова, Саулова, да пожнет их огнь-пламя!.. И будет нам прозрение и радость великая!
Да где она, радость, если небо над Белой Еланью заволокло тучами, а за Амылом грохотал гром и молнии полосовали черноту его огненными лентами.
Хлынул дождище. Тополевцы сбились под святое древо. Духовник продолжал службу, не обращая внимания на дождь – кто помочит, тот и высушит. Меланья с малым чадом Деомидом и с грудной девчонкой стояла на коленях, истово отбивая поклоны.
Филимон поспешно переполз поближе к тополю с подветренной стороны – он не таковский, чтоб бороду мочить. Косился на Меланью: «Хучь бы окоянного выродка молнией шибануло», – согрешил. Хоть помирился в третий раз с отцом, а все на сердце лежал камень; никак не мог принять в душу тятин приплод. Да и в доме Филимон проживал вроде работника. Хозяйством управлял отец – знай поворачивайся, а к бабе Меланье не прикасайся – епитимью воздержания наложил на увальня. «Осподи, как жить ноне? Таперь батюшка силу набрал. В Ошарову уехать к Харитинье, што ль? Ипеть-таки хозяйство!» Нет, хозяйство Филя не бросит. Не три же века будет топтать землю батюшка? Когда-то и аминь отдаст!
Изо дня в день лили дожди. На час-два проглянет солнышко, и тут же подоспеют тучи. Льет, льет – на двор не высунешься. Деревня жила тихо. Начальство покуда не наведывалось. Про красных сказывали, что их, будто, повсеместно вылавливают и казнят. Пущай хоть всех прикончат.
Первую травушку скосили в дожди. Прокопий Веденеевич взял на сенокос трех поселенцев, а Меланья домовничала. «Ишь, как жалеет! – сопел Филя. – Погоди, ужо. Я ей, лихоманке, припомню потом!..»
Ни сам Прокопий Веденеевич, ни Филимон ни разу не вспомнили про Тимофея. Как будто и знать такого не знали.
А вспомнить пришлось…
На сенокос прибежала Меланья, босая, в длинной черной юбке, с узлом снеди, еще издали крикнула:
– Ой, тятенька! Идите сюды! Скорее!
Прокопий Веденеевич взял свою литовку и пошел к Меланье, а за ним Филимон в бахилах, вразвалку, нога за ногу.
– Бежала-то я как, осподи! Ажник сердце зашлось, – тараторила Меланья, переводя дух. – Новность-то какая, батюшка. Барыня Юскова – Евдокея Елизаровна приехамши из города…
Меланья никак не могла отдышаться и собраться с мыслями.
Старик выжал мокрую бороду себе на посконную рубаху, спросил:
– Ну и што, ежли приехала? Какая наша сторона к ней?
– Дык-дык – в дом к нам заявилась. Я овец стригла. Манька прибежамши в пригон…
– Погоди, – остановил Прокопий Веденеевич, почуяв недоброе. Глянул на поселенцев, и к Филимону: – Коси тут с ними. Седне из-за дождя мало положили травы. Эко лило!
– Я ажник насквозь мокрая, – ввернула Меланья. – Бегу, бегу, а дождь как из ведра. До ниточки промокла. Шалью узел с хлебом прикрыла. Да ведро свежей рыбы приперла. Маркелушка принес. На Казыре ловили. Ужасть скоко поймали ленков, тайменей и харюзов.
Холстяная длинная юбка на Меланье обвисла и обтекала на голые ноги. Черная кофтенка прилипла к телу и мокрый платок припечатался на волосах.
– Какая новность? – не утерпел Филя, переступая с ноги на ногу.
– Иди, грю, косить! – погнал отец. Глянул на поселенцев, плюнул: – Ишь, сатанинским зельем задымили. Токмо бы дымить да бока отлеживать в стане. Работнички!.. Не поденно нанимать бы, а урочно. Ужо потолкую! Пять днев косим, а скошенного на три коровы.
– Дык дожди-то эко льют.
– Когда ишшо травушку косить, как не в дождь? Ступай!
Филя, так и не узнав новости, пошел с поселенцами продолжать покос. Старик с Меланьей направились к становищу. Меланья начала было говорить, но старик оборвал:
– Погоди с новностью. Вот разведу огня, обсушишься. С кем ребятенок оставила? С Варфаламеевной? И то!
Невдалеке от реки, на сухой горке, возвышалось два берестяных стана. Один для чужаков-поселенцев, другой – для себя. Между становищами очаг с прокоптелыми котелками, нарубленный хворост-сушняк, лагушка с квасом – для поселенцев посуда на особой доске. Прокопий Веденеевич вынес из стана беремя сухих дров и скруток бересты, развел огонь, обдумывая, с чего вдруг вертихвостка Евдокия Юскова навестила их дом? По какой нужде? Неспроста!
Меланья подсела к огню, чтоб высушить мокрую юбку.
– Ну, обсказывай.
– Дык доченька Юскова заявилась. Которая Урвана застрелила из леворверта.
– В доме была?
– Я все опосля ее перемыла. И пол выскоблила с дресвой, табуретку и лавку, а потома окропила святой водой, чтоб…
– Не про лавку спрашиваю. Сказывай, как она пришла, по какой надобности, какой разговор был. Да не тараторь. Со смыслом, по порядку.
А было так…
С утра Меланья ушла в пригон стричь овец. Каждый год овец стригли, и все-таки они никак не могли привыкнуть к стрижке. Блеяли на весь пригон, кучились, тараща свои глупые глаза, и надо было каждую ловить, вязать по ногам, чтоб не брыкалась. День выдался морочный, и в пригоне было сумеречно. Повязав овцу, Меланья подстилала холщовое рядно, чтоб не грязнить шерсть, и, ловко орудуя острыми ножницами, стригла от зада к голове. Работала быстро, ни разу не поранив животное. Никто из мужчин, пожалуй, не мог бы соперничать с Меланьей на стрижке, как и на жатве серпом, за что и хвалил ее свекор. К полудню она управилась – семнадцать овец, четырех баранов и семь валушков остригла и выгнала в пойму Малтата пастись. Только успела управиться, полил дождь, а крыша пригона местами протекала. Надо было перетащить шерсть в амбар и там расстелить на рядно, для просушки и сортировки, как прибежала четырехлетняя Манька в холщовом платьице, босая.
– Ой, мамка, чужачка у нас, Демку на руки взяла.
Манька в четыре годика научилась различать «чужачек», людей, не похожих на тополевцев.
Схватив Маньку за ручонку, Меланья поспешила в дом. Еще в сенях ударил в нос чуждый запах – духмяность буржуйская. Переступив порог, Меланья замерла. На табуретке сидела черноволосая гостья – белолицая, в кожаной распахнутой тужурке и шерстяной шали на плечах, в черной юбке и в хромовых сапожках, по союзкам испачканных грязью. На коленях у нее сидел Демка, и щеки у него отдулись – набил рот конфетами.
– Осподи! – ахнула Меланья. Она узнала чужачку – Евдокию Елизаровну. Ужли за Демушкой явилась?
– Что испугалась? – спросила гостья, вскинув на Меланью свои большие черные глаза. – Или не признала меня?
Меланью будто кто толкнул в спину – один миг, и она выхватила мальчонку из рук чужачки. Та удивилась:
– Что ты так? Парнишку-то испугала!
– Чаво тебе надыть? Чаво? – вздулась Меланья. – Живо мужиков кликну.
Мужиков, конечно, дома не было – но надо же припугнуть.
– Какая ты, ей-богу! Ну, позови мужиков. Кто у вас дома-то? Старик?
Меланья ни слова.
– Какая же ты дикая!
– Уходи, барыня. Чаво надыть? Ежли за Демкой – дык топор схвачу.
– Какие страсти-мордасти! Ну, схвати топор. Да себя не заруби. Ох, какая же ты пуганая! Тошно смотреть. Мужики-то дома или нет? Ну, что молчишь? Мне с ними поговорить надо.
– Не будут они говорить с тобой, – отсекла Меланья, чуть успокоившись. – Чо надо – сказывай, коль в дом без спросу явилась.
– У вас все со спросом! И в дом, и воды испить, а как погляжу – дикость и невежество! Ну да вот что. Если мужиков нету дома, не забудь передать старику… Как его?
– Прокопий Веденеевич.
– Да, да. Прокопий Веденеевич. – Помолчав минуту, что-то обдумывая, Евдокия Елизаровна скупо сообщила: – Скажи старику, что… Тимофея Прокопьевича казнили в городе. Шашками изрубили казаки. Так что… нету теперь Тимофея Прокопьевича. Просто не верится, что такой человек родился в этом страшном доме, – повела взглядом по избе.
Меланья ни слова, ни вздоха, как будто слова Евдокии Юсковой летели мимо ее сознания.
– Я видела его изрубленного шашками у тюремной стены; трудно было признать, до того изуродовали каратели. По шраму на щеке признала, да по мертвым синим глазам. Такие синие-синие, ужас. Передай все это старику. Так что… убили! С пятницы на субботу казнили. 27 июля по-новому. Число не забудь. Может, поминки отведете.
– Ишь, как! – встрепенулась Меланья. – Как он был анчихрист, така и смерть пристигла. Да штоб поминки ему! Пущай в геенне жарится с нечистыми.
Евдокия быстро поднялась с табуретки, коротко и зло взглянув на Меланью, кинула, как грязью:
– Звери вы, вот что. Звери!
И с тем ушла…
Все это рассказала Меланья старику с пятое на десятое, по многу раз повторяясь, путаясь в словах чужачки, и особенно ей запомнился наряд Евдокии Юсковой – кожаная куртка с красивыми пуговками, шерстяная шаль с узорами.