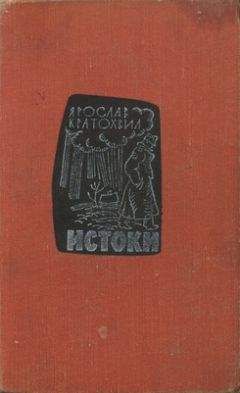Томан не справился со своим волнением и негодованием.
— Война сама по себе зло, — сказал он раздраженно. — Но теперь мы воюем для того, чтобы больше никогда не было войн. Поэтому нам необходимо вместе с вами в этой войне победить. Это единственно возможная война против войны.
— Война — зло! Спасибо. Поняли. Вот и кусочек нашего ядрышка.
Молодой солдат опять скромно, виновато улыбнулся.
— Простите, один дурак может задать больше вопросов, чем десяток мудрецов ответить. Война — зло, и вот это — правда для всех… для всех людей… Людей! А то, что вы потом сказали, — это только ваша правда. Уже не немецкая. А вы нам скажите такую правду, чтобы нашему слову поверили, даже немцы… Потому что чистая правда — одна. Откройте нам настоящую правду, не киевскую, не вятскую, а такую, которая одна и та же для всех народов, она и победит: и немецких генералов, и вашего кайзера, во всем мире, потому что она чистая, единая.
— Большевик! — заорал кто-то поверх внимательно задранных голов.
— Товарищи! — повернулся солдат к толпе. — Может, я неясно выразился. Товарищи, вы меня понимаете?
Толпа заволновалась.
— Понимаем! Чего здесь не понять?!
— Простите, не умею говорить по-ученому. Простите мои дурацкие речи.
Петраш, подметив странную искорку в смиренных глазах солдата, решительно заявил:
— Тогда знайте, что люди, которые управляют государством, разбираются в этих ваших правдах лучше, чем вы и ваше неграмотное стадо. Потому что они чему-то учились, потому что видят дальше, чем вы! И знаете что? Раз вы не понимаете здравых и ясных мыслей, придется вас заставить слушаться приказа…
Солдат с легкой усмешкой пожал плечами.
— И все-таки хочется знать правду!
Он очень четко, хотя как бы и колеблясь, заговорил среди внимательной, жадно вслушивающейся тишины.
— Что нам делать, чтобы немцы поверили нам, а не своим генералам? И что делать им, чтобы мы поверили им, а не нашим генералам?
У Томана заболело, заколотилось сердце.
— Палка по ним плачет! — пробормотал за его спиной Горак и, оскорбленный, возмущенный, уселся в углу теплушки.
— Мыслят, как при царе Горохе!
— Темный народ! Им учиться надо!
В напряженной, взволнованно прислушивающейся тишине набатом ударил вдруг высокий, пронзительный, дрожащий голос Томана:
— Яд! Яд! Это яд! Товарищи, его правда — яд, демагогия! Его правда — яд!
— Простите, — невозмутимо заговорил солдат. — Я ведь прошу, чтоб вы сказали мне правду. Какая правда — яд? Английская или немецкая? Скажите вы нам настоящую правду, которая будет противоядием против всякой лжи, против всякой ложной правды. Ну, а на нас, дураков, не сердитесь, — закончил он.
— Обратите внимание на его глаза! — шепнул Петрашу кадет Блага.
Петраш впился взглядом в лицо солдата.
— Вы кто?
Солдат помолчал, выдерживая взгляд Петраша, и ответил:
— Депутат.
— Дезертир! — закричали два голоса сразу. — Арестовать его!
— Вас надо арестовать! — оскалил зубы Фишер.
— Арестуйте! — спокойно сказал солдат.
Потом, на глазах у всех, он сел на грязную выщербленную ступеньку лестницы у запыленного пакгауза, попросил огонька, зажег цигарку и стал приглаживать рукой отросшие темные волосы.
* * *
Волнующаяся толпа, напряженные взгляды, радостные лица солдат, споры, разгоревшиеся заново, — и во все это набатным звоном ворвался трубный сигнал к отъезду, и сейчас же раздались команды усердствующих унтеров.
Русские солдаты, в каком-то особенно молодеческом порыве, словно приступом брали свои теплушки. И вскоре уже скрипнули оси, залязгали буфера.
Потянулись теплушки, и долго еще кричали что-то солдаты, набившись в двери; только офицерский вагон простился с чехами судорожно-подчеркнутым, немым воинским приветствием, исполненным уважения и горячего сочувствия.
После этого вокруг вагонов с чехами разлилось успокоение. Некоторое время, словно утомившись, добровольцы не разговаривали и друг с другом.
— Эх, нагайкой бы тупой скот!..
Перебросившись несколькими бессвязными фразами, они вдруг разом вспыхнули в непомерном негодовании: отъезд все откладывался и откладывался.
Над вокзальными огнями сгустилась чернота ночи, добровольцы, с глухим бунтом в душе, улеглись на грязный пол теплушек, между вещей, но, привычные к удобным лагерным постелям, не могли заснуть.
Под станционными фонарями гудели рельсы, где-то стукались буфера, шипел пар, и свистки паровозов взрезали неподвижную ночь.
Вместе с шумами бессонного вокзала Томану не давали покоя неусмиренные взгляды русских солдат, и в особенности одна пара глаз, молодых, презрительных, маскирующихся насмешливым смирением. И как бы сквозь эти глаза видел он ту далекую ночь, когда он так же лежал на жестком полу вагона и не мог уснуть, потому что колеса под ним ликовали:
— Мир, мир, мир!
Он представил себе обер-лейтенанта Грдличку и Кршижа, которые, как он думал, теперь наверняка вернутся после войны домой, к прежним занятиям. Грдличку он видел директором налогового ведомства, достойно строгого в канцелярии, но сияющего величайшим удовлетворением в ежевечерней застольной компании, над кружкой пива. Кршижа он представлял себе в судейской мантии; таким он остался в памяти Томана со дня его унижения: глаза Кршижа колют его, подсудимого, стрелами ненависти, и сам Кршиж бьет его словами, как палкой бьют собаку.
Мимолетно вспомнился и кадет Ржержиха.
И так горько стало ему от всего этого, что он совсем упал духом. Сердце тонуло и задыхалось в какой-то трясине недовольства и разочарования. В таком настроении он покорился бы и смерти. Вот и будет он так лежать без движения, ничему не сопротивляясь, и пусть этот грязный вагон, эта стая кадетов, уносит его — безразлично куда, безразлично!
Он чувствовал: Фишер, лежащий рядом, не спит и, кашляя, заглядывает ему в лицо; и со строптивой ненавистью Томан закрыл глаза, притворясь спящим.
С первыми проблесками рассвета он встал, весь разбитый, с помятым от бессонницы лицом. Не хотелось смотреть на город, на солдат, которые с заспанными желтыми лицами полоскались под водопроводным краном, проливая воду в пыль.
Днем их теплушки прицепили наконец в хвост пассажирского поезда. Движение после длительного ожидания возвратило их к жизни.
Поплыли назад здание вокзала, крыши домов, верхушки деревьев, перрон, толпа, солдаты…
На стрелках вагон сильно швыряло; в открытые двери врывался дым. В соседнем вагоне выкрикивали насмешливые слова прощания.
Фишер подошел к двери вагона и сплюнул табачную слюну.
У переезда разбегались куры; дети кричали и махали руками поезду. За телегой, исчезающей вдали, поднималась пыль. Улица открылась мелким, бесконечным руслом. Крыши. Больница, земская управа.
«А Соня так и не пришла…» — горько промелькнуло в усталой голове Томана.
Фишер вытащил трубку, сел в дверях у ног Томана и неожиданно, безо всякой связи, сказал:
— Немцы побеждают их образованием, как Давид Голиафа.
Леденящая тоска тронула усталое сердце Томана.
— А они способны все отравить, — ответил он. — Самые великие, самые прекрасные мечты… — И, помолчав, добавил: — Они их раздавят. А может, и весь мир…
Дрожь бессильной ярости охватила его.
— …раздавят жестокой, звериной неправедной силой!
Легкое и тщетное сожаление, а потом и этот прилив ярости, причиняющей боль, постепенно развеялся паром в солнечном сиянии.
Широкий мир открывал им свои всегда мужественные объятья.
Последнее письмо Томана, полученное Бауэром в Обухове, было написано в дни боев у Зборова. Томан лишь наспех извещал Бауэра об отъезде в чехословацкую армию. О том, насколько внезапным был этот отъезд, позволяла судить торопливая приписка, в которой Томан просил больше не писать ему, пока он не сообщит нового адреса; на случай же, если тем временем уедет и Бауэр, последний должен устроить так, чтоб запоздавшая корреспонденция обязательно все-таки нашла его.
Получив это письмо, послал и Бауэр свое заявление, в котором настаивал на немедленном отзыве в армию, хотя вновь созданная им организация чешских пленных, — в отличие от первой он назвал ее «Сиротский дом», — еще и недостаточно окрепла. Для верности свое заявление он послал по трем адресам: во-первых, заказным письмом в киевский филиал Чехословацкого национального совета, созданного на съезде чехословацкой общественности; во-вторых, служебным путем — в русские органы, а чтоб оно не застряло где-нибудь еще, отправил копию прапорщику Шеметуну в частном письме, в котором просил поддержать его.