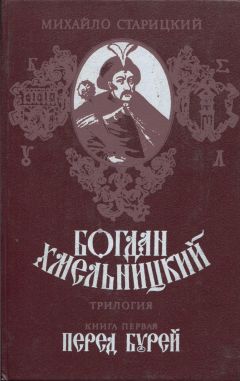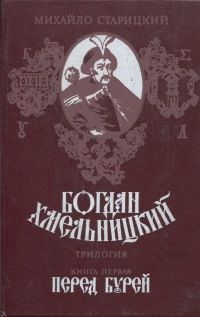— С смирением лобзаю стопы его святейшества, — сложил набожно руки король и наклонил голову.
— А и время теперь самое удобное, — продолжал вкрадчивым голосом Тьеполо, — силы турок разбросаны. Один отважный удар — и поднятые рога месяца будут сбиты; перед мечом короля-героя и мощные силы склонялись, а орда будет разметана, как листья в бурную осень, и Крым со всеми своими богатствами и роскошами ляжет у ног победителя... Тогда-то исполнится вековечное стремление Речи Посполитой развернуться от моря до моря, тогда-то она только и станет несокрушимою державой.
— И развернемся, — вскрикнул восторженно Владислав, — если только господь не отвратит десницы своей... Завтра, — добавил он после небольшой паузы, — мы обо всем переговорим поподробнее... Я жду светлого пана к себе на обед и на келех нашего доброго старого меда...
По уходе Тьеполо король опустился от усталости в кресло и, закрыв рукою глаза, долго дышал тяжело: возбужденное состояние уступило теперь место болезненной истоме.
Оссолинский смотрел на него с тревогой и с глубоким сочувствием; глаза канцлера, блестевшие сейчас радостью и надеждой, отуманились вдруг печалью.
«Эх, горе, — думалось ему, — куда твои силы ушли, мой одинокий в своих благородных порывах король? Подсекла их непосильная борьба с себялюбивым зверьем, подгрызли разочарования и обиды! И вот теперь, когда колесо фортуны повернулось к нам благосклонно, когда именно нужна твоя мощь и энергия, тебя валит с ног даже радость!»
— Устал я, — вздохнул глубоко король, словно отвечая Оссолинскому на его мысли, — всякое волнение, даже отрадное, отнимает у меня силы...
— Побереги их, ясный король, — произнес тронутым голосом канцлер, — в них все упование, все спасение горячо любимой тобою страны... Я знаю искусных докторов...
— Эх, что в них! «Цо докторове, як смерць на глове?..» Но я поберегусь, да и вся эта суета и предстоящая кипучая деятельность поднимут мои жизненные силы... Но на сегодня, полагаю, довольно... Дай бог, чтобы такие счастливые дни повторялись почаще!
— Еще нужно принять одних... — начал несмело канцлер.
Король поморщился.
— Приехала ведь козачья старшина...{146} — таинственно продолжал канцлер. — Барабаш и Хмельницкий, о которых я докладывал твоей королевской мосци... Дело минуты: обогреть их ласковым словом, вручить клейноды... А о делах уже я буду говорить с ними отдельно.
— А! — встал король и потер рукой крестец. — Зови их; я этих удальцов люблю, а особенно старого знакомого сотника.
— Вот подписанные твоей власной рукой привилеи, — подал Оссолинский сверток, — я приложил к ним малую печать, не желая возбуждать у Радзивиллов подозрений.
Король засмеялся беззвучно и уныло покачал головой.
В боковую дверь вошли Барабаш с Хмельницким и молча наклонили свои головы.
— Я рад вас видеть, друзья мои, — подошел к ним с приветливою улыбкой король, — к вашей доблести, преданности и чести я питаю большое доверие и убежден, что вы его оправдаете. В доказательство же нашего монаршего благоволения мы возводим тебя, Барабаш, в полковничье достоинство, — подал ему он пернач, — а тебя, Хмельницкий, жалуем вновь прежнею должностью, — вручил он ему привесную к груди чернильницу.
— Да хранит бог нашего найяснейшего короля, нашего коханого батька, — восторженно воскликнул Богдан, так как Барабаш, смущенный неожиданною радостью, что-то невнятно мямлил, — и да пошлет нам быть достойными его державной ласки...
— Не сомневаюсь, — оживился снова король, — верю, храбрый мой рыцарь! Помнишь ли, под Смоленском вместе мы бились... прорезались, загоревшись отвагой, впереди всех и очутились в самом пекле... Перуны гремели кругом...
Смерть бушевала... А ты с улыбкой рубился и защищал меня своею грудью. Эх, славное было время! Помнишь ли?
— Я бы вышиб из этого черепка мозг, — дотронулся до своей головы энергично Хмельницкий, — если бы он забыл эти счастливейшие для меня дни! Да вот еще свидетель — эта драгоценнейшая для меня сабля, эта святыня, дарованная мне вашею королевскою милостью, — и Богдан обнажил саблю и поцеловал ее клинок.
— Ах, да, да! Помню, — волновался воспоминаниями король, — может быть, еще приведет бог... Передайте козакам мой привет и эти привилеи, — вручил он Барабашу пергамент{147}. — Егомосць канцлер сообщит вам инструкции... Я надеюсь, что найду в моих удальцах избыток отваги и преданности, и когда я кликну им клич, то они слетятся орлами.
— Умрем за короля! — крикнул Барабаш.
— Спасибо, товарищ! — протянул король руку, и в глазах его остановилась слеза.
Из-под тонких пальцев Марыльки медленно выплывали по зеленому бархату золотые цветы. Иногда она склонялась задумчиво над пяльцами, иногда устремляла пристальный взор в глубину комнаты, и тогда иголка с золотою ниткой застывала неподвижно в ее белой и тонкой, словно изваянной из мрамора, руке. Скучная работа подвигалась медленно, а взволнованные мысли кружились в красивой головке с неудержимой быстротой. Снова он, так неожиданно, нежданно! Правда, она пересылала ему письмо, но никогда, никогда не надеялась, чтобы это исполнилось так скоро. Быть может, дела призвали его в Варшаву, а может... У Марыльки сердце замерло на мгновенье. Раз уже он явился на ее пути, раз вырвал ее из опасности. И вот он снова перед нею и во второй раз! Ах, не указание ли это божие? Не послан ли он и в этот раз вынести ее на своих плечах из этой гадкой тьмы?
Марылька отбросила с досадой иголку и откинулась на деревянную, обитую кожей спинку кресла. Длинные собольи ресницы полузакрыли ее синие глаза, на нежных щеках вспыхнул яркий румянец и разлился вплоть до маленьких ушек, а шелковистая, золотая коса спустилась до самой земли.
— Да, из тьмы, из гадкой, ненавистной, постылой тьмы, прошептала она тихо, полуоткрыв свои небольшие, но резко очерченные губы.
Вот уже четыре года, как она здесь, в этом роскошном доме, но легче ли ей от этого?? О нет, нет! Правда, она не знает нужды, она не терпит особого унижения, ее даже дарят Урсула и пани канцлерова своими обносками, — по лицу Марыльки пробежала презрительная улыбка, — но разве эта жизнь для нее? Стройная фигура ее гордо выпрямилась, и в широко открытых синих глазах блеснул холодный, надменный огонек. А сначала, когда ее взяли и думали возвратить от Чарнецкого все ее имения, с нею обращались не так. Ею все тешились и любовались, слушали ее рассказы и показывали ее знатным панам, а когда с Чарнецким не удалось дело и особенно когда она стала взрослой панной, а Урсула — невестой, о, как ловко по-магнатски оттерли они ее на задворки и показали, что ее место, как бедной приймачки, здесь, у этих пялец, или в покоях Урсулы, смотреть за пышными уборами панны или тешить ее, когда на панну нападает капризная тоска. О, эта Урсула!
Марылька закусила губу и сжала свои соболиные брови; ее тонкие выточенные ноздри гневно вздрогнули, а в синих глазах блеснул снова холодный и злой огонек. Все ее муки, все унижения через нее! «Бледная, худая, со своими выпуклыми, бесцветными глазами, с волосами ровными и желтыми, как и длинное лицо, — перечисляла она с ожесточением все достоинства дочери коронного канцлера, — со своею маленькою головкой и постоянными думками о том, что можно, а чего нельзя, да о чем говорил пан пробощ. И эта мертвая, бездушная кукла попирает ее, заступает ей дорогу к жизни, к свету, к красе!
Марылька с ожесточением оттолкнула от себя пяльцы и поднялась во весь рост.
Да, именно она! С тех пор, как эта краля стала невестой и занялась полеваньем на женихов, затворничество приймачки стало еще строже: им страшно выпускать ее в свет рядом с Урсулой... У Урсулы приданого-то немного, и она должна поймать себе мужа своею красой, — даже фыркнула Марылька, — и канцлеровскою печатью... Вот и ловят дурня!
Уж, конечно, не что иное, как эта печать, привлекает к себе длинноногую цаплю, этого Самуила Калиновского...{148}Отец его мечтает стать при помощи тестя коронным гетманом... Ну, и пусть себе! Цапля цапле пара! А мне то за что эти вечные будни?»
Марылька прошлась по светлице.
О, эта серая, скучная жизнь! Ей... ей, Марыльке, которая рождена для роскоши, для красы! Да лучше б отпустили ее на волю! Она сумела б сама найти себе дорогу, при красе своей она не побоялась бы отправиться и с пустыми руками в путь! Так нет же, нет! Они оберегают ее, они не выпускают ее никуда, дальше этих скучных покоев. Жалко им, верно, расстаться с мыслью о ее наследстве, держат ее на всякий случай.
И зачем ее спас Богдан на турецкой галере? Попала бы она в гарем к султану, утопала бы в неге, в роскоши, в бриллиантах, в парче! Тысячи рабов были бы к ее услугам... Одного движения ее белой руки довольно бы было, чтоб осчастливить покорных и покарать врагов! «Ах, — задохнулась она от горячего прилива крови. — Голова кружится при мысли о той роскоши, славе и поклонении, которые разливались бы у моих ног!..»