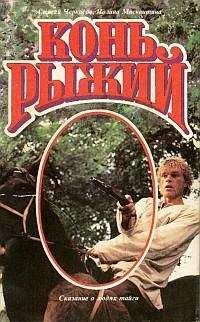Как-то ночью, когда особенно свирепо рвал холодный ветер, Прокопий Веденеевич поднял домочадцев на большую службу очищенья духа.
«Рехнулся, может, тятенька», – сопел недовольный Филимон, поднимаясь с угретой постели.
Прокопий Веденеевич читал молитву во здравие раба божьего Тимофея, яко праведника, явленного спасителем, чтоб люди прозрели от вечной тьмы: и сын этот, Тимофей, должен жить вечно, потому что дан ему глагол божий.
У Филимона от такой молитвы заурчало в брюхе.
– Виденье мне было нонешнюю ночь, – продолжал моленье старик. – Сижу у окна, мучаюсь от боли и гляжу на тополь наш. Вижу – сиянье озарило святое дерево, и небо открылось огненным крестом, а под тополем – Тимофей, сын мой. И был мне глас спасителя: «Не ты ли, раб божий Прокопий, изгнал сына-праведника, и стала тьма? Не токо ли незрячие изгоняют святых угодников, когда они являются в люд во плоти и в рубище? И не будет радости в доме вашем, ежли вы не прозреете и праведника не почтите молитвою на большой службе бдения». А я гляжу, гляжу на Тимофея, и весь он, вижу, кровью исходит – раны отверзлись на его членах, и кровь льется из тех ран наземь, на корни тополя. «Господи! Сатано я, сатано, коль не узрил в доме своем праведника!» – сказал так себе, и все померкло: тополь ипеть стал черным; и тут я поднял вас. Аминь.
– Аминь! – отозвались домочадцы.
Отгорало лето, трудное, тревожное, заполненное смятением и болью…
И даже те, кто недавно пел аллилуйю белогвардейцам и чехам, свергнувшим Советы в Сибири, оказались на распутье: ни демократии, ни свободы. Царствовала бестолковщина, разруха, грызня эсеров с меньшевиками, монархистов с анархистами, а по губернии – разгул карателей, порка плетьми и расстрелы дезертиров.
«Один – до леса, другой – до беса», – говорили в народе.
Август выдался жарким.
С утра город купался в солнце, а к полудню с запада наплыла темно-лиловая туча. Клубясь и разрастаясь, она ширилась, медленно подступая к городу. Навстречу ей с востока ползла такая же плотная черная туча, и когда они сомкнулись, враз похолодало, словно над городом нависла чугунная плита. Огненная лента полоснула вдоль и поперек плиты, раздался оглушительный взрыв грома, и хлынул ливень.
Молнии ослепительно сверкали, сопровождаемые громом, точно над городом в схватке не на живот, а на смерть сошлись две армии, открыв артиллерийскую перестрелку. Ливень хлестал как из ведра. По канавам улиц шумно неслись грязные потоки, выплескиваясь на плиточные деревянные тротуары.
В разгар грозы и ливня на станцию Красноярск прибыл пассажирский поезд дальнего следования. Из мягкого вагона вышел господин в отменном драповом пальто с бархатным воротничком, в ботинках с галошами, шляпе. В правой руке он держал стянутый ремнями увесистый саквояж, к ручке которого был привязан на широкой зеленой ленте ключ.
Мимо патрульных легионеров в армейских накидках толпа пассажиров хлынула в вокзал. На какой-то миг приезжий выхватил из оцепления бравую фигуру рыжебородого казака, из-под накидки которого виднелась золотая оковка ножен шашки. Низко надвинув шляпу на глаза, он миновал зал ожидания и вышел в город.
На привокзальной площади толпились извозчики, предлагающие свои услуги.
– Не угодно ли извозчика, господин коммерсант?
Приезжий быстро обернулся, присмотрелся к лицу человека в дождевике и сказал:
– Непременно, непременно, милейший, – и пошел за ним, хлюпая по лужам.
– Эй, Абдулла Сафуддинович, отвезешь господина коммерсанта.
– Якши! – Абдулла пересел на облучок, а господин коммерсант сел на его место под тент, прикрыв колени полостью.
Тронулись.
– Ой, яман погода! Был солнце, а теперь ливень и гром! – И погнал коня рысью от привокзальной площади к центру города, не оглядываясь и не спрашивая, куда везти.
По Воскресенской домчались до двухэтажного особняка архиерея, свернули по переулку вниз и по Большекачинской, не доезжая до Садового переулка, подвернули к воротам каменного особняка.
– Здесь, – оглянулся Абдулла на пассажира. – Дверь три раза стучать надо. Яман, яман, погода! Дурной сопсем – собак не гонят на улица. – И, развернувшись, уехал.
Хозяйка в теплой шали на плечах, забрав мокрую одежду гостя, проводила его в просторную комнату с голландской печью, буфетом, письменным столом, венскими стульями и вышла.
Пока гость протирал запотевшие очки, скрипнула дверь, вошел Машевский.
– Ефим! Дружище! – воскликнул Казимир Францевич, облапив гостя. – Вот уж кого не ожидал встретить! Ну, обрадовал, обрадовал! Карпов, да ты что, меня не узнаешь, что ли?!
– Неужели Казимир?! Голубчик мой! Сколько лет, сколько, зим! Это как же… Значит, жив!
– Жив, здрав. Садись, садись ближе к печке. Грейся!
– О, какое у тебя тут тепло! Изрядно я промок, изрядно, – сказал гость, направляясь к открытой дверце голландской печи.
– Ну, как ты добрался? Мы тут все с ума сходили в ожидании.
– Как нельзя лучше, – ответил русоголовый гость, погладив аккуратную бородку и протянув руки к огню. – Ах, как хорошо! А помнишь, Казимир, как мы соорудили камин в той избенке в Тулуне?
– Еще бы!
– Это была такая роскошь! Мы все ложились на пол вокруг камина. А Маркиз, помню, месяца три нам пересказывал «Трех мушкетеров», да с такой художественной выразительностью, как будто сам их сочинил!
– Умер бедняга от чахотки на другой год после твоего побега.
– Жалко. Какой весельчак был! А ты знаешь, на вокзале я немного трухнул: среди чехов, гляжу, такая знакомая борода! Точь-в-точь хорунжий Лебедь из Гатчины! Ведь я эту бороду еще по Урянхаю помню, когда он лоцманил. Потом он был председателем полкового комитета. А теперь – каратель? Или я обознался?
– Не обознался. Хорунжий Лебедь, точно. Но он нам не опасен. Я тебе потом о нем расскажу… Это наш человек. Да. Он действительно служит у белых. Но тут ведь такая сложилась тяжелая обстановка. Обо всем я тебе расскажу. Но прежде всего о делах. Забастовку по железной дороге готовим объединенными усилиями подпольных комитетов Восточной Сибири – это раз. Грандиозная пилюля будет! Обзавелись шрифтом и типографским станком – это два. Все время выпускаем листовки. Налаживается связь с партизанами. Моя Прасковья должна вот-вот вернуться из Шало. Я ведь женился на Прасковье Дмитриевне.
– Постой, постой! Прасковья Дмитриевна Ковригина? Она не сестра Анны Дмитриевны? У меня письмо от Анны Дмитриевны ее старшей сестре…
– Анечка жива?! – воскликнул Машевский. – Господи, радость за радостью! А мы уже отчаялись ждать от нее вести. Для Прасковьи это будет такая радость, если бы ты знал, Ефимушка! Она же сейчас в тайге. В Степном Баджее формируется партизанский отряд. Из действующих отрядов у нас пока два: под Красноярском отряд Копылова и в Мариинской тайге около восьми тысяч наших красногвардейцев, отступивших туда после разгрома фронта белочехами. Там идут бои. Давай же письмо!
Письмо было длинным и наполовину густо зачеркнутым химическим карандашом.
«Милая моя Пашенька! Я все сделаю, чтобы быть достойной тебя и Казимира и всех наших славных товарищей. За малое время я многому научилась. Я верю, верю в наш светлый завтрашний день. Этот день будет нашим, Пашенька! И ты верь, как бы тебе не было трудно в это страшное время. Рано или поздно мы будем вместе. Вы только ни в чем не вините К.И. Он ничего не сделал мне во вред, а только на пользу».
Дальше все было густо зачеркнуто. С трудом Машевский прочитал одну строчку: «…дядя наш повесился… уборной гостиницы… Пусть мама не плачет…»
Письмо заканчивалось словами:
«Обнимаю тебя, милая сестричка, и Казимира Францевича, маму, папу и всех товарищей! Очень бы хотела хоть на минутку побыть с вами. Но я так далеко, далеко, что и вообразить невозможно». Снова большой прочерк и слова: «…ждите письма из Москвы. И вспоминайте меня иногда. Вы навечно в моем сердце, дорогие.
С коммунистическим приветом
Аня».
У Машевского тряслись руки, когда он кинул в печь письмо и печально смотрел, как бумага на раскалённых углях разом вспыхнула, выкинув пламя.
Прасковья будет обижена, когда узнает, что он сжег письмо сестры, не дождавшись ее возвращения из тайги. Но тут уж ничего не поделаешь!..
– Анна в Москве? В Центре знают, с кем и каким образом она уехала из Красноярска? – не мог не спросить Машевский.
Карпов молча прошел к двери, открыл ее и заглянул в сени, тогда уже ответил:
– Мы касаемся, Казимир, особых тайн. Но поскольку моя встреча ограничится тобою, скажу: Анна направлена в Центр с секретнейшими документами. Мне об этом в Самаре сообщил подполковник Кирилл Ухоздвигов. Это такая фигура, брат… По конспирации нам с тобой до него, пожалуй, и не дотянуться при всей нашей выучке. Он же прошел школу дипломата. Еще во Франции вступил в социалистическую партию. Коммунист до мозга костей. Вот такие дела, брат.