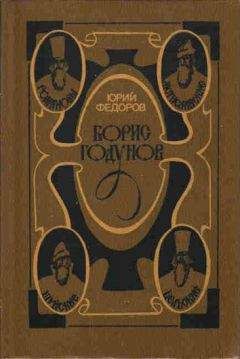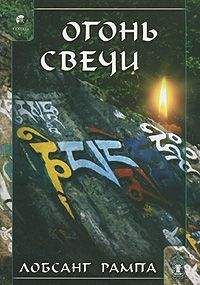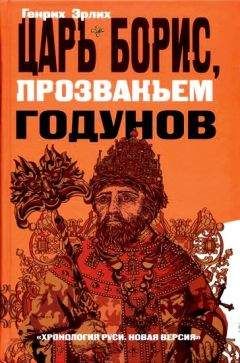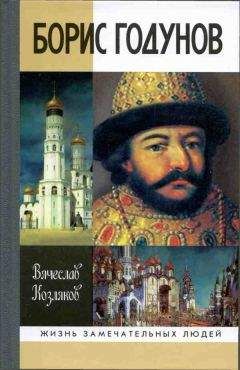В эти дни, когда великая рать под водительством князя Мстиславского по российскому обычаю, неспешно продвигалась к западным пределам в Дмитров, к игумену Борисоглебского монастыря пришло патриаршее повеление — всенародно предать с амвона монастырского собора анафеме вора и изменника Гришку Отрепьева.
Игумен прочел патриаршее повеление, и у него руки задрожали, в ногах ощутил он слабость и присел на стульчик. Уж больно страшные слова были начертаны в переданной ему бумаге. В глаза игуменовы так и бросились строчки: «…крестное целование и клятву преступивший… народ христиано-российский возмутивший, и многие невежи обольстивший, и лестно рать воздвигший… души купно с телесы множества христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший, и на все государство Московское злоумышленник, враг и крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец да будет проклят! Анафема!» Игумену даже нехорошо сделалось после таких слов. Он задышал часто, чувствуя в груди колотье и ломоту в висках. Но худо-бедно, ан отсиделся игумен на стульчике подле оконца и стал прикидывать, что и к чему. Известно — был он хитромудр. В послании же патриаршем слова вколачивали, как гвозди в гроб.
Святой отец в оконце глянул. Оконце перекрещивала черная решетка, и по решетке, припорошенной снежком, прыгала малая птаха синица. Суетилась, неслышно разевая клювик, подергивала хвостиком и, как шильцем, клювиком своим — а он-то всего с полноготка — туда и сюда потыкивала. Мушку искала, козявку, кроху какую ни есть малую. «Ищешь? — подумал игумен. — Ишь ты, птаха божья… Знать, жить хочешь…» А видел: холодно синице и ветер ей перышки топорщит.
Задумался.
Русь, известно, слухами живет. Экие, казалось бы, неоглядные земли, дальние дороги, куда уж там преодолеть пути эти бесконечные и слово от одного к другому передать. Но нет. Катили, катили по российским дорогам обозы, чертили снежок полозья, и коники били копытами в звонкую наледь, оставляя за собой долгие версты. А с обозами-то, с обозами летели по российской земле слухи. Встретит мужик мужика на широком дорожном разъезде да и крикнет:
— Э-ге-ге! Здорово живешь!
Пересядет к попутчику в сани. А там слово за словом да и вывалит, что в дороге услышал, как грибы из кузова.
— Вот так-так!.. — разинет рот слушающий его человек. — А нам, дуракам, не ведомо.
Другому их передаст. Тот — третьему, и, глядишь, новость в день-другой в такие дали докатится, что и понять трудно. Так вот и к игумену Борисоглебского монастыря через многих людей дошло, что вор Гришка Отрепьев, о котором он грозную бумагу от патриарха получил, вроде бы и не вор, но человек богобоязненный и к церкви приверженный.
Игумен в мыслях раскорячился.
Мужики, пройдя по долгим дорогам, рассказывали, что новоявленный царевич службы стоит во все дни, чин церковный блюдет, благость на нищих и убогих изливает, богу-вседержителю молится трепетно, изнуряя себя в тех молитвах, даже и чрезмерно.
И другое слухи донесли.
Войско, рассказали игумену, у царевича несметное. Больше того, говорили, что города он не воюет, но они сами открывают перед ним ворота. Народ вяжет воевод и выдает царевичу. Такое еще сильнее ввело игумена в смущение. Он попросил принести известной монастырской настоечки.
Настоечку принесли. А по монастырю среди братии пошел разговор, что игумену бумага прислана от патриарха, а он в ней сомневается.
В это-то время, когда игумен настоечку попивал, дабы мысли пришли в порядок, а братия волновалась, исходя душевными силами в тревожных разговорах, привел в монастырь обоз из пяти саней Степан. Нужда у него объявилась в сене. Снега были высокие, морозы, и сена выходило на лошадок его много больше обычного, а в монастыре, известно, и сена, да и овса запас был немалый.
Введя обоз в монастырский двор и обиходив лошадок, Степан толкнулся к монаху Пафнутию.
Пафнутий встретил его странно. Снулый был какой-то, сумной. Брови надвинул, буркнул:
— Не до тебя.
Степан покорно повернулся, пошел к лошадям. Потоптался вокруг саней, поглядел на церковные кресты, еще потоптался. А мороз жал на плечи, и чувствовалось, что к вечеру еще похолодает.
Ближняя к Степану лошадка, понуро опустив голову, помаргивала обмерзшими ресницами, ознобливо подергивала кожей. Иней одевал разгоряченных дорогой лошадей больше и больше. Степан голицей[34] провел по усам, по бороде, поднял голову и недобро посмотрел на окно Пафнутьевой келии. За решеткой не видно было никакого движения. По двору же монастырскому братия так и шастала. То один монах пробежит, придерживая рясу и скользя худыми подошвами по наледи, то другой. И лица, заметил Степан, у монахов озабоченные. «Что это они, — подумал, — аль угорели?»
На крыльцо вышел Пафнутий. Взглянул на Степана, сказал:
— Иди в собор. Велено всем собраться.
Отец игумен, выпив настоечки, все же решил: «Приказ патриарший строгий. Ослушаешься — и худо будет». Поднялся от стола и, охая и держась за поясницу, походил по палате. Приседал при каждом шаге, кренился в стороны, будто его ноги и вовсе не держали, постанывал, покряхтывал натужно. В мыслях было: «Ах, царевич, царевич богобоязненный… Ах, города, ворота перед ним открывающие… Ах, воеводы, связанные и на милость царевичу выданные…» Но тут же и другое объявилось в голове: «Иов-то, может быть, и недоглядит за непорядком по слабости и забывчивости, но вот слуги его ничего не забывают. И народ это суровый. Ослушаться нельзя. До царевича далеко, а у этих молодцов руки длинные и цепкие. Нет, повеление патриаршее исполнять надобно».
Пафнутий со Степаном в храм вошли, а он уже был народом заполнен. И тут Степан услышал страшные слова. По бумаге читанные отцом игуменом, они еще в четверть силы звучали. А здесь, под высокими сводами, гулко чувствующими и слабый шепот, в огне свечей, освещавших храм текучим, колеблющимся светом, под взглядами святых, смотревших с окон распахнутыми строгими глазами, слова ударили в полную силу.
— …крестное целование и клятву преступивший… — поднялось под купол собора и грянуло, многократно увеличившись в звуке на головы.
У Степана даже скулы напряглись болезненно. А уже другие слова обрушились на него:
— …души купно с телесы христианского народа погубивший, и премногому невинному кровопролитию вине бывший…
Степану представилось что-то красное, кровавое, дикое. Свет свечей ударил по глазам и еще больше удивил пугающие краски, замельтешившие в глубине сознания. Он опасливо оглянулся.
Братия стояла, опустив лица. Степан увидел: запавшие в неверном свете свечей глаза, тенями прорезанные по лицам морщины, черные пальцы, прижимавшиеся ко лбам. И представилось ему, что на Русь идет что-то страшное. То, что не пощадит святых церквей, разрушит города, веси, изломает даже и саму землю с ее полями и лесами, выплеснет реки и озера.
И тут он вспомнил увиденный им однажды вихрь, катившийся воронкой по степи. Вихрь падал в травы сверху из черной тучи и, раскачиваясь и клонясь, двигался по степи. В те минуты табун Степанов, сбившись плотно тело к телу, застыл в напряжении, и он, табунщик, понял, что нельзя в сей миг позволить сорваться лошадям с места. Одна лошадь сделает шаг — и тогда, ломая ноги и калеча друг друга, табун покатится по степи в бешеной скачке, которая навряд ли кого-либо из лошадей оставит в живых. Степан шагнул к жеребцу и обхватил его за шею. «Стой, стой, милый! — закричал в ухо, перекрывая вой ветра. — Стой…»
— …крестопреступник, разбойник, душегубец, человекоубиец, кровопиец, — обрушивалось с высоких сводов, — да будет проклят!
И упало последнее, убивающее:
— Анафема!
Лошадей в страшный вихрь табунщик удержал. После службы в соборе Степан подошел к монаху Пафнутию и, не поднимая лица, сказал:
— За сеном я приехал.
Пафнутий поглядел на него долгим-долгим взглядом. Глаза у монаха страдали.
— Правильно, — сказал он, — правильно, сынок. Будет тебе сено. Будет.
Пан Юрий Мнишек больше и больше удивлялся, глядя на мнимого царевича. Этот человек был непостижим для его ума. В мнимом царевиче все было противоречиво. Потерпев поражение при штурме Новгорода-Северского, он впал в черную меланхолию, но уже через неделю, услышав громкие крики толпы, приветствовавшей его после службы в захудалой деревенской церквушке, гордо поднял голову и, казалось, перестал замечать и пана Мнишека, да и все польское рыцарство, которое только несколько дней назад униженно умолял не покидать его и спасти от казавшихся ему вокруг врагов.
Одна нелепость дополнялась другой.
Отрепьев, во время скитаний по Польше мывший посуду в кухне у захудалого пана Габриэля Хойского, воспринял сдачу сильнейшей крепости Путивля как нечто обычное и даже долженствующее. Это было невероятно.