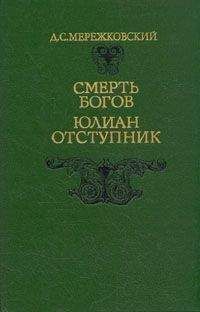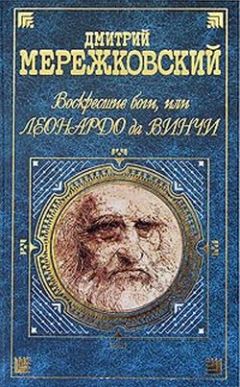К утру – это было 24 апреля, Светлое Христово Воскресенье – стало ему легче. Но, так как все еще он задыхался, а в комнате было жарко, Франческо открыл окно. В голубых небесах реяли белые голуби, и с трепетным шелестом крыльев сливался звон колоколов пасхальных. Но умирающий уже не видел и не слышал ничего.
Ему казалось, что неимоверные тяжести, подобные каменным глыбам, падают, валятся, давят его; он хочет приподняться, сбросить их, не может – и вдруг, с последним усилием, освобождается, летит на исполинских крыльях вверх; но снова камни валятся, громоздятся, давят; снова он борется, побеждает, летит, – и так без конца. И с каждым разом тяжесть все страшнее, усилие неимовернее. Наконец, чувствует, что уже не может бороться, и с криком последнего отчаяния: Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня? – покоряется. И только что покорился, – понял, что камни и крылья, давление тяжести и стремление полета, верх и низ – одно и то же: все равно – лететь или падать. И он летит и падает, уже не зная, колеблют ли его тихие волны бесконечного движения, или мать качает на руках, баюкая.
Несколько дней еще тело его казалось живым для окружающих; но он уже не приходила себя. Наконец, однажды утром, – это было 2 мая, Франческо и фра Гульельмо заметили, что дыхание его ослабевает. Монах стал читать отходную.
Через некоторое время ученик, приложив руку к сердцу учителя, почувствовал, что оно не бьется. Он закрыл ему глаза.
Лицо умершего мало изменилось. На нем было выражение, которое часто бывало при жизни – глубокого и тихого внимания.
Пока Франческо с Баттистой Вилланисом и старой служанкой Матуриною обмывали тело, – окна и двери открыты были настежь.
В это время, снизу, из мастерской, прирученная ласточка, о которой, забыли в последние дни, почуяв свободу, через лестницу и верхние покои, влетела в комнату, где лежал покойник. Покружившись над ним, среди погребальных свечей, горевших мутным пламенем в сиянии солнечного утра, опустилась, должно быть, по старой привычке, на сложенные руки Леонардо. Потом вдруг встрепенулась, взвилась и через открытое окно улетела в небо, с веселым криком. И Франческо подумал, что в последний раз учитель сделал то, что так любил, – отпустил на волю крылатую пленницу.
Согласно с желанием покойного, тело его пролежало три дня, но не в мертвецкой – этого не захотел Франческо, – а в той же комнате, где он умер.
При совершении похорон, все, сказанное в завещании, соблюдено в точности: капелланы, каноники, викарии, монахи сопровождали гроб; шестьдесят н"-цих несли шестьдесят свечей; в четырех церквах Амбуаза отслужены три большие и тридцать малых обеден, причем горели десять фунтов толстых восковых свечей; семьдесят туренских су розданы бедным при городской больнице Сен-Лазар. По этим признакам благочестивые люди могли убедиться, что хоронят верного сына святой католической Церкви.
Он был погребен в монастыре Сен-Флорентен. Но так как скоро забытая могила сровнялась с землею, и память о нем в Амбуазе исчезла бесследно, то для грядущих поколений место, где покоился прах Леонардо, осталось неизвестным.
Сообщая о смерти учителя братьям его во Флоренции, Франческо писал:
«Горя, причиненного мне смертью того, кто был для меня больше, чем отец, выразить я не умею. Но, пока жив, буду скорбеть о нем, потому что он любил меня великою и нежною любовью. Да и всякий, полагаю, должен скорбеть об утрате такого человека, которому другого подобного природа не может создать. – Ныне, всемогущий Боже, даруй ему вечный покой».
В день смерти Леонардо Франциск I охотился в лесу Сен-Жерменском. Узнав о кончине художника, велел запечатать его мастерскую до своего прибытия в Амбуаз, так как желал сам выбрать для себя лучшие картины.
Впрочем, у Франциска в это время были заботы, более важные для него, чем искусство. Пять месяцев назад, 12 января 1519 года, скончался император Максимилиан I. Три короля – Англии, Испании, Франции – спорили из-за короны Священной Империи, действуя обманами и происками. Франциск уже мечтал – соединив в руках своих скипетр французских королей со скипетром римских императоров, основать небывалую в Европе монархию. На подкупы намеревался истратить три миллиона; искал союза с папою и обещал ему крестовый поход на турок для отвоевания Гроба Господня; клялся, что, через три года после своего избрания, вступит победителем в Константинополь и водрузит крест на Святой Софии. Больше, чем других соперников, ненавидел юного Карла, короля испанского, уверяя, что скорее согласится на избрание ничтожного курфюрста Бранденбургского или даже короля Польши Сигизмунда, чем Карла.
Лев X, по обыкновению, лукавил и вилял между обоими соперниками, не отвечая ни да, ни нет; в то же время продолжал переговоры, через доминиканца Дитриха, Шомберга, с великим князем московским Василием Иоанновичем и, добиваясь его участия в Священной Лиге против турок, предлагал ему посредничество для заключения мира с королем Сигизмундом.
В это время один из двух, бывших в Италии русских послов, Дмитрий Герасимов, уже вернулся в Москву; другой, Никита Карачаров, остался в Риме. Узнав о предстоящем избрании кесаря и о переговорах по этому поводу Франциска с злейшим врагом своего государя, королем Сигизмундом – для более подробных и точных разведок Никита, вместе с папским легатом, поехал во Францию и, так же как в первую поездку, взял с собою старого подьячего. Илью Потапыча Копылу, толмача Власия и двух младших писцов, Федора Игнатьевича Рудометова – Федьку Жареного и Евтихия Паисиевича Гагару.
Евтихий, по обычаю многих тогдашних русских странников, вел краткую путевую запись, где отмечал все особенно любопытное из виденного и слышанного. В этом дневнике, между прочим, описывал он так Флоренцию:
«Град, зовомый Флоренза, велик вельми, и таковаго не обрели мы в преждеписанных. Есть же прекраснейший и предобрейший сущих в Италии градов, их же сам видел. выжницы вельми красны, палаты из белого камня, вельми высоки и хитры. И есть во граде том божница великая, камень мрамор бел да черен. И у божницы той устроен столп-колокольница, так же белый камень-мрамор. И хитрости ее недоумевает ум наш. И ходили мы во столп тот наверх и сосчитали ступени: четыреста и пятьдесят. Что могли своим малоумием вместити, то и написали, как видели, иного же не мощно исписати, зане пречудно есть отнюдь и несказанно», – заключал он рассказ, и действительно, то, что больше всего поразило его, не сумел он выразить: среди мраморных шестигранных барельефов Джотто, которыми украшен нижний ярус исполинской «кожольницы» – Кампанилы собора Санта-Мария дель фьоре и которые изображают последовательные ступени человеческого развития – скотоводство, земледелие, укрощение коня, изобретение кораблестроения, ткацкого станка, обработки металлов, живописи, музыки, астрономии, – заметил он хитрого механика Дедала, который испытывал изобретенные им, огромные восковые крылья: тело облеплено птичьими перьями; крылья привязаны ремнями к туловищу; обеими руками ухватился он за внутренние перекладины и, приводя ими в движение крылья, пытается взлететь.
Этот самый барельеф некогда внушил отроку Леонардо, только что приехавшему во Флоренцию из родного селения Винчи, первую мысль о летательной машине – Великой Птице.
Загадочный образ Крылатого Человека тем более поразил Евтихия, что в те дни он работал над иконою Предтечи Крылатого. С неясною и вещею тревогою он почувствовал противоположность вещественных, устроенных, может быть, хитростью бесовскою, крыльев механика Дедала и духовных, «прообразующих парение девственников к богу», крыльев «ангела во плоти» – Иоанна Предтечи. Франциск I из Сен-Жермена переехал в охотничий замок Фонтенбло, затем в Амбуаз. Сюда же, в первых числах июня 1519 года, прибыл русский посол Никита Карачаров и остановился, так же как в первый приезд, в доме нотариуса мэтра Гильома Боро, на главной улице города, у Часовой Башни.
Тотчас по приезде осмотрел король мастерскую Леонардо. В тот же день, вечером, принцесса Маргарита, с послом курфюрста Бранденбургского и другими чужеземными вельможами, в том числе Никитой Карачаровым, отправились в замок Дю Клу.
Проведав об этом, Федька Жареный посоветовал дяде, Илье Потапычу Копыле и Евтихию Гагаре также отправиться в «Дюклов», уверяя, что они могут увидеть много любопытного в доме «сего достохвального мастера Лионардуса, мужа чудного рассуждения, благосердного, в науке книжного поучения довольного, в словесной премудрости ритора, естествославного и смышлением быстроумного».
Илья Потапыч и Евтихий с толмачом Власием последовали за ним в замок Дю Клу.
Когда они пришли, Маргарита и прочие гости, уже кончив осмотр, собирались уходить. Тем не менее, Франческо принял новых гостей с тою же любезностью, с какою принимал всех чужеземцев, посещавших дом учителя, не справляясь о чинах и звании; повел их в мастерскую и стал показывать все, что в ней было.