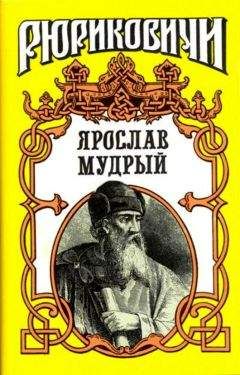От тепла в княжьей горнице синие щеки митрополита стали багрово-сизыми, хищно посверкивали черные глаза среди пожелтевших зарослей, при малейшем движении Феопемпта зловеще шуршала парча фелони, хотя митрополит и старался сохранить закаменевшую неподвижность, чтобы этим подчеркнуть свою неуступчивость душевную. Сидел он напротив князя будто воскресший мертвец, и Ярослав думал с раздражением: «Чего ему нужно?».
Разве мог этот старый, далекий от жизни человек, глухой к языку великого народа, к которому он был брошен по воле константинопольского патриарха, а то и самого императора, — разве мог он постичь извилистые пути державной мудрости? Когда речь идет о храме Софии, митрополит знает лишь канонический гимн, который хорошо известен и князю: «Она — дыхание и чистое излияние славы Вседержителя. Она — отблеск вечного света. Она прекраснее солнца и выше сонма звезд, в сравнении со светом она яснее, ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превосходит злоба. Бог никого не любит, кроме того, кто живет с мудростью».
А знает ли митрополит, что такое мудрость? И вообще — кто знает? Вот, чтобы утвердиться на столе Киевском, пришлось ему, Ярославу, пойти на уступки ромеям, не только принять митрополита в Киеве и его священников, но и пустить их в церкви, вести богослужение на греческом языке, которого никто из простых людей не понимал, и вышло так, что в Киеве звучала в церквах греческая речь, в землях более отдаленных — русская. Ромеям казалось, что князь навсегда пришел к убеждению, что все богослужебные книги испокон веков писались только на греческом языке и что так оно должно быть повсюду и вечно, а князь тем временем хорошо ведал, что ничей язык не может присваивать себе никаких истин, ибо и священные книги разве не были писаны на языке гебрайском, а потом, во времена Константина Великого, переведены на латынь, по-гречески же в Византии зазвучали только после Ираклия, а в Болгарии при царе Симеоне заговорил христианский Бог по-болгарски, сам Симеон и его экзарх Иоанн переводили священные книги на родной язык, столь близкий к языку русскому; ведал Ярослав вельми хорошо и то, что пресвитер Илларион в Берестах уже давно начал собирать людей смышленых, чтобы пepeписать по-русски греческие священные книги, не чинил ему сопротивления в том, имел намерение со временем взять это дело под свое покровительство, но это — потом.
Покамест же должен был изо всех сил прикидываться дружелюбным и уступчивым перед ромеями. Предчувствовал приближение перемен и послаблений в Византии, но еще не мог откровенно выступить против грознейшего врага. Тот, кто сделал один шаг, должен сделать и другой. Пускай митрополиту кажется, будто все идет как следует, будто ромейский дух все больше и больше начинает господствовать на Руси; он, Ярослав, знает свое, он идет к своему медленно, осторожно, но упорно и уверенно. Уверенность в себе умеют сохранять люди, которые в совершенстве срослись со своей средой, глубоко убеждены в ее высоких качествах. Они не нуждаются в том, чтобы играть чью бы то ни было роль, никакие внешние принуждения не толкают их к этому. Они остаются собой даже в уступчивости. И если Ярослав допустил ромеев на какое-то время в Киев, то всячески противился он распространению их влияния на другие города; если следом за своим отцом подчас жестоко боролся с богами старыми ради Бога нового, то одновременно помнил и о необходимости сохранения старинных обычаев, ибо ни один мудрый властелин не должен стремиться к искоренению всех местных обычаев, отличий и склонностей: ведь они господствуют над людьми сильнее, чем самая могущественная власть.
Наверное, никто не понимал князя. Удивлялись, что пустил он ромеев в Киев, никого, кажется, не увлекало намерение Ярослава превратить Киев в новый Константинополь. Чужой Бог, чужие слова среда безбрежного моря певучего родного языка — зачем все это?
Даже на печатях Ярослава, где стояли некогда, еще из Новгорода, слова русские, теперь было написано по-гречески: «Господи, помоги рабу твоему Георгию-архонту». Уже и не князь — архонт? Зачем же так?
Потянули от греков на Русь бессмысленную одежду: хламиды, лоры, гранацы. Везли поволоки, влатии, фофудии, за кусок ткани иной раз погибали десятки людей, пока довозили ее до Киева. А зачем? Все эти одежды возникли в теплых краях и не годились для морозов и холодов русских, но князья почему-то потянулись к этим одеждам, — быть может, любо было их сердцу все то, что шло от могущества ромейских императоров? Быть может, надеялись вместе с этими нарядами перенять и величие? А может, вычитал обо всем этом князь Ярослав в книгах? Ибо страшно суесловие, всегда найдутся велеречивые умельцы убедить и самую гордую выю незаметно заставят согнуться в поклоне перед чужим.
Так, видно, думали о Ярославе, да совсем иначе сам он думал о себе. Знал, что никто ему не поможет, не верил никому, замкнулся в своем упорстве даже перед самыми близкими, ибо жизнь научила его, что все люди в конечном счете — враги между собою. Никогда не забывал своей первой ночи с княгиней Ириной, помнилась ему и Шуйца, мог бы пересчитать вот так сотни, казалось бы, людей самых близких, но была всегда межа, за которую ступить не удавалось. Человеческую разобщенность не в силах был одолеть даже во взаимоотношениях с женой, он смирился с этим и теперь действовал, полагаясь исключительно на собственные силы и на собственный рассудок Никто никогда не должен знать, что князь скажет завтра, какое слово будет сказано им после уже сказанного.
Ярослав смотрел на митрополита, его забавляло ослиное упорство Феопемпта, князь смеялся в душе над тем, как обманул ромея при закладке церкви, пообещал ему не вмешиваться во внутреннее убранство, наслаждался в предчувствии нового поражения этого старика, чуждого, начисто ненужного в этой земле человека.
Были приглашены все мастера и художники, они принесли греческие книги и свитки, на которых показано было, как сделана была та или иная церковь в Византии; все стояли вдоль стен, сидели только князь и митрополит, говорить разрешалось тоже лишь князю и митрополиту, так, будто дальнейшая судьба собора зависела не от умения и рук молчаливых людей, подпиравших плечами стены, а от наставлений и решений двух мужей в дорогой одежде.
Митрополит направлял на князя свой узкий, будто рыбья кость, нос, говорил быстро, давился словами, захлебывался, он обеспокоен был прежде всего тем, чтобы выговориться; с тупым упрямством фанатика, которого долгие годы отучивали думать, Феопемпт снова бормотал о патриархе Фотии, о его наставлениях и повелениях, в надоедливых ссылках на церковные авторитеты улавливалось не столько упрямство митрополита, сколько растерянность; он не знал, как заполнить огромный внутренний простор собора, его пугала необычность и многообразность внутренней части церкви, точно так же как и наружной; привыкший к расписыванию обычного храма, где все сосредоточивается в серединной наве, византиец плохо представлял теперь, как применить канонические картины из истории Христа к многочисленным притворам, к переходам, к неестественной, почти мистической подвижности внутреннего пространства сооружаемой неистовыми зодчими киевской церкви; в то же время он не хотел уступать хотя бы один лоскут свободного места, опасаясь, что непокорный Сивоок сразу же воспользуется этим для того, чтобы нарисовать там что-нибудь языческое.
— Церкви нужны смиренные, — бормотал митрополит, — смиренные, смиренные…
— А державе еще и даровитые, — добавил Ярослав, наслаждаясь растерянностью Феопемпта.
— В церкви святой Софии в Константинополе есть надпись, которая читается одинаково и обычно и сзаду наперед: «Нифон аномимата ми монан офин» — «Омойте не только тело ваше, но омойтесь также от ваших грехов». Такое кругообразие необходимо и в росписях на священные темы.
— «Ясарак усон втееми ясак», — вдруг высунулся из-за художников шут Бурмака, с нахальным хохотом прерывая митрополита. — Звучит вроде бы по-ромейски, а если наоборот читать, получается; «Кася имеет в носу карася». Го-го!
Князь махнул рукой, приказывая шуту исчезнуть, но торжественность минуты уже была испорчена, митрополит застыл с раскрытым ртом, глаза его заслезились, теперь он особенно был похож на человека в предсмертной агонии. «Одной ногой стоит в могиле, а за свое держится крепко», — подумал Ярослав.
Наконец Феопемпт очнулся от оцепенения, заговорил снова. В храмах византийских богатство мусий гармонически сочетается с блеском мраморов карийских, родосских, итальянских, без мрамора не обойтись и тут.
— Мешкотно, — сказал князь, — в такую даль возить камень — мешкотно и невыгодно.
— Имею весть, что уже везут для храма две мраморные колонны. — Митрополит самодовольно задвигался на лавке. — Греческие купцы везут для твоего храма белые и высокие колонны, а еще — корст мраморный с узорами македонскими.