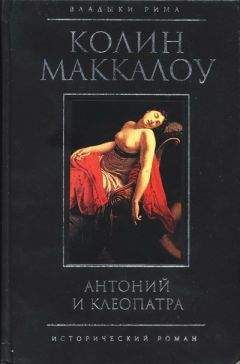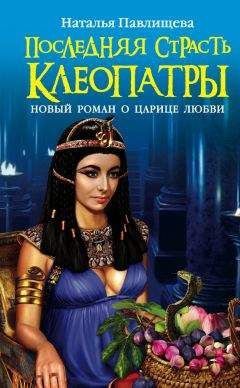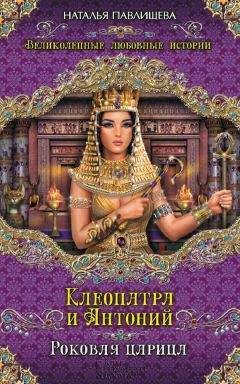— Когда ты поняла, что любишь его, мама?
— В Акции, во время массового дезертирства царей-клиентов и его легатов и после нескольких второстепенных поражений на суше. Пелена спала с моих глаз, иначе я не могу описать это. Я взглянула на его голову и увидела, что почти за одну ночь он поседел. Внезапно я почувствовала такое сострадание к нему, словно он — это я. И — пелена спала. В один миг, с одним вдохом. Да, я понимаю теперь, что любовь постепенно росла во мне, но в тот момент она явилась для меня полной неожиданностью. Потом события так стремительно стали развиваться, что у меня не было достаточно времени, чтобы показать ему всю глубину моей любви. А теперь, наверное, этого времени у меня никогда не будет, — печально закончила она.
Цезарион поднял ее с кресла, обнял и стал гладить по спине, словно ребенка.
— Он придет в себя, мама. Это пройдет, и у тебя появится случай показать ему свою любовь.
— Когда ты стал таким мудрым, сын мой?
Цезарион сдержал слово. Маленький тимониум для Марка Антония был построен за один день. Человек, чье лицо было Антонию незнакомо, крикнул ему издали, что еду и питье будут ставить у двери, и ушел.
Голод и жажда придут, конечно, но сейчас он еще не сильно ощущал их. Он открыл дверь и остановился на пороге, глядя на эту тюремную камеру. Ибо это была камера. И только когда он справится со своими душевными муками, он сможет выйти. Входя в этот дом, Антоний не знал, сколько продлится его заточение.
Словно в ярком свете он увидел все, что он делал неправильно, но каждый шаг надо было продумать детально.
Бедная, глупая Клеопатра! Цеплялась за него как за спасителя, хотя все в его мире видели, что Марк Антоний никого не может спасти. Если он не смог спасти себя, был ли у него шанс спасти других?
Цезарь — настоящий Цезарь, а не тот мальчишка-позер в Риме — всегда это знал, конечно. Почему бы еще он пренебрег тем, кого все считали его будущим наследником? Все началось там, с того признания его негодным. Его реакция была предсказуемой: он пойдет на Восток драться с парфянами, сделает то, что не успел сделать Цезарь. Заработает бессмертие и станет равным Цезарю.
Но с этим планом он потерпел крах, увяз в собственных недостатках. Почему-то всегда казалось, что еще достаточно времени для пирушек, и он вовсю предавался веселью. Но времени-то и не было. Ведь вопреки всему дела у Октавиана в Италии шли хорошо. Октавиан, всегда Октавиан! Глядя на голые стены своего тимониума, Антоний понял наконец, почему его планы не осуществились. Ему надо было проигнорировать Октавиана и продолжить кампанию против парфян, а не преследовать наследника Цезаря. Напрасно потраченные годы! Напрасно! Напрасные интриги, нацеленные на свержение Октавиана; сезон за сезоном, ушедшие на то, чтобы поощрять Секста Помпея в его тщетных замыслах. Антонию не надо было оставаться в Греции, чтобы обеспечить это. Если Октавиану суждено было победить Секста Помпея, присутствие Антония не могло предотвратить это. И не предотвратило, в конце концов. Октавиан обхитрил его, победил вопреки ему. А годы шли, и парфяне становились сильнее.
Ошибки, одна за другой! Деллий первым ввел его в заблуждение, потом Монес. И Клеопатра. Да, Клеопатра…
Почему он поехал в Афины, вместо того чтобы остаться в Сирии той весной, когда вторглись парфяне? Потому что он боялся Октавиана больше, чем настоящего, естественного врага. Подвергая опасности собственное положение в Риме, он сам разрушил основание своей силы и духа. И теперь, спустя одиннадцать лет после Филипп, у него не осталось ничего, кроме стыда.
Как он может посмотреть в глаза Канидию? Цезариону? Его римским друзьям, еще живым? Столько людей умерло из-за него! Агенобарб, Попликола, Лурий… А такие люди, как Поллион и Вентидий, были вынуждены уйти в отставку из-за его ошибок… Как он снова посмотрит в глаза столь достойному человеку, как Поллион?
Шагая по земляному полу, он все думал, думал, вспоминая о еде, только когда уже шатался от изнеможения или останавливался, удивляясь, что за когтистый зверь терзает его желудок. Стыд, стыд! Он, которым так восхищались, которого так любили, всех их подвел, задумав погубить Октавиана, хотя это не было ни его долгом, ни его лучшей идеей. Стыд, стыд!
Только с наступлением зимы, необычно холодной в этом году, он успокоился настолько, что смог думать о Клеопатре.
А о чем было думать? Бедная, глупая Клеопатра! Ходила по палатке, подражая поведению поседевших на полях сражений римских маршалов и считая себя равной им в военном искусстве только потому, что она оплачивала счет.
И все это ради Цезариона, царя царей. Цезарь в новом обличье, кровь от крови ее. Но разве мог он, Антоний, противоречить ей, если все, чего он хотел, — это угодить ей? Зачем еще он пошел на эту сумасшедшую авантюру — завоевать Рим, если не из-за любви к Клеопатре? В его голове она заменила собой ту парфянскую кампанию после его отступления от Фрааспы.
«Она была не права. Я был прав. Сначала сокрушить парфян, потом идти на Рим. Это был лучший вариант, но она не понимала этого. О, я люблю ее! Как мы можем ошибаться, когда подвергаем испытанию наши цели! Я уступил ей, хотя не должен был этого делать. Я позволил ей разыгрывать роль царицы перед моими друзьями и коллегами, а мне нужно было просто конфисковать военную казну и отослать ее саму в Александрию! Но у меня не хватило смелости, и в этом тоже мой стыд, унижение. Она использовала меня, потому что я позволил меня использовать. Бедная, глупая Клеопатра! Но насколько же беднее и глупее это делает Марка Антония?»
Когда наступил март и погода в Александрии опять стала тихой, Антоний открыл дверь своего тимониума.
Чисто выбритый, с коротко стриженными волосы — о, сколько в них седины! — он появился внезапно во дворце, громко призывая Клеопатру и ее старшего сына.
— Антоний, Антоний! — заплакала она, покрывая его лицо поцелуями. — Теперь я снова могу жить!
— Я изголодался по тебе, — шепнул он ей на ухо, потом мягко отстранил ее и обнял Цезариона, который был вне себя от радости. — Я не буду говорить тебе того, мой мальчик, что все должны говорить тебе, но ты заставляешь меня снова почувствовать себя молодым, и моя задница еще болит от пинка сапога Цезаря. Теперь я седой, а ты вырос.
— Недостаточно вырос, чтобы служить старшим легатом, но ведь и Курион и Антилл тоже еще недостаточно взрослые. Они оба здесь, в Александрии, ждут, когда ты выйдешь из своей тимониевой раковины.
— Сын Куриона? И мой собственный старший? Edepol! Они тоже уже мужчины!
Цезарион засиял.
— Мы все встретимся за отличным обедом, но только завтра. Сначала вы с мамой должны побыть вместе.
После самых замечательных часов любви, которые она когда-либо испытывала, Клеопатра лежала рядом со спящим Антонием, как упрямое насекомое, пытающееся охватить ствол дерева. Сгорая от любви к нему, она обрушила на него поток слов, потом вся отдалась ему, утонула в потрясающих ощущениях, которые она в последний раз испытывала, когда Цезарь держал ее в своих объятиях. Но это была предательская мысль, она отбросила ее и постаралась вести себя так, чтобы Антоний увидел, как она любит его.
Он рассказал ей все, к чему был готов, больше всего желая заверить ее, что он не кутил, что его тело осталось прежним, а ум — все таким же ясным.
— Я ждал, что небо обрушится на меня, — закончил он. — Один, апатичный, совершенно разбитый. А сегодня утром, на рассвете, я проснулся исцеленный. Не знаю, почему и как. Просто проснулся, думая, что, хотя мы не можем выиграть эту войну сейчас, Клеопатра, мы можем предоставить Октавиану возможность потратить деньги. Ты говоришь, что мои легаты, находящиеся здесь, все еще на моей стороне, а твоя собственная армия находится в лагере у Пелузия. Значит, когда Октавиан придет, мы будем ждать его.
Их идиллия длилась недолго. Вмешалась жизнь и разрушила ее.
Хуже всего были известия, принесенные Канидием в начале марта. Канидий путешествовал один по суше из Эпира в Геллеспонт, потом пересек его и попал в Вифинию, доехал до Каппадокии и перешел Аман, никем не узнанный. Даже последний отрезок пути через Сирию и Иудею остался без происшествий. Канидий тоже постарел, его волосы поседели, голубые глаза поблекли, но его верность Антонию осталась прежней, и он смирился с присутствием Клеопатры.
— Акций пал в самом колоссальном морском сражении, когда-либо проводимом, — сказал он за обедом, на котором присутствовали молодой Курион, Антилл и Цезарион. — Многие тысячи твоих римских солдат были убиты, Антоний. Ты знал это? Так много, что только горсточка уцелела. И их взяли в плен. Но ты сам продолжал сражаться, даже когда «Антония» была объята пламенем. Потом ты увидел, что царица покидает тебя и возвращается в Египет, и тогда ты прыгнул в пинас и кинулся ей вдогонку, оставив твоих людей. Ты пробирался сквозь сотни умирающих римских солдат, игнорируя их просьбу остаться, ты только хотел догнать Клеопатру. Когда ты догнал и она взяла тебя на борт, ты выл, как раненая собака, три дня сидел на палубе, покрыв голову и отказываясь двинуться с места. Царица взяла у тебя твой меч и кинжал. Ты был как безумный, чувствуя себя виноватым в том, что покинул своих людей. Конечно, Рим и Италия теперь абсолютно убеждены, что в лучшем случае ты — раб Клеопатры. Твои самые преданные сторонники покинули тебя. Даже Поллион, хотя сражаться против тебя он не будет.