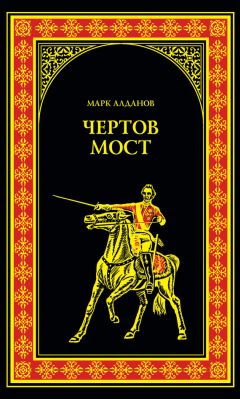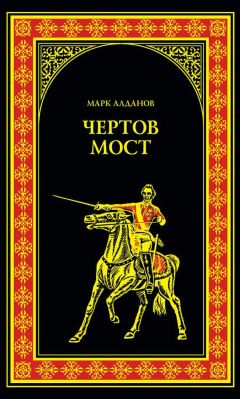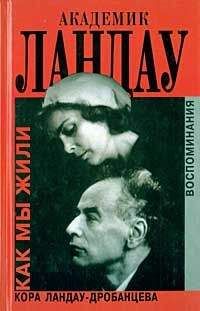– Где же вас поместить? – сказал он на швейцарском наречии. – Мы были бы рады, но, вы сами понимаете, все занято.
В ермолке, с зеленым передником, со спущенным на спину капюшоном, с уютной восковой свечою монах нисколько не был страшен. Вид у него был добродушный и испуганный. Ветер вдруг ворвался в убежище и задул свечу. Капуцин, тяжело вздохнув, отступил на шаг и выпустил дверь из рук. Штааль счел это приглашением. Он переступил порог, сбросил узел на каменный пол и в изнеможении прислонился спиною к стене. Монах, поднявшись по небольшой лестнице, засветил свечу о ночник. За лестницей шел узкий каменный коридор с рядом невысоких тяжелых дощатых дверей. Над каждой висела еловая ветка. Внизу в дверях были проделаны узкие отверстия. Пахло сыростью погреба и – едва слышно – ладаном.
– Нет места, все занято, – сказал решительно капуцин.
– Может быть, здесь в коридоре?.. – спросил дрогнувшим голосом Штааль.
– Нет, здесь нельзя, – испуганно ответил монах.
– Тогда простите, что вас потревожил, – проговорил отрывисто Штааль, стуча зубами.
Капуцин вгляделся в его измученное, посиневшее лицо.
– Как же быть, если вы больны? – сказал он, хоть Штааль ни слова не сказал о болезни. Монах, очевидно, искал законной причины для того, чтобы исполнить его желание. – В самом деле, очень холодная ночь.
Он подумал и подошел к полке под второй лестницей. На ней стояли лампы, подсвечники, что-то еще. Отыскав ключ, капуцин отпер маленькую дверь против лестницы, протянул в чулан руку со свечой и повернулся к Штаалю.
– Разве здесь поместить вас? – сказал он неуверенно. Чулан был крошечный, с покатым потолком, с которого спускалась толстая веревка. Воск полился со свечи, пламя потянулось к двери, вниз: ветер сильно дул сверху. Штааль увидел, что веревка проходила через сделанное в потолке отверстие. В чулане было крошечное окно. Это Штааль заметил позже – теперь он видел лишь одно: в каморке можно было лечь. Он горячо поблагодарил монаха.
– Что ж, я думаю, вы можете здесь провести ночь? – сказал капуцин. – Мы отсюда звоним. Веревка идет к колоколу, что над крышей дома.
Он вернулся к полке, зажег другой фонарь и поставил его на пол чулана.
– В самом деле, очень холодно, – повторил он, все еще убеждая себя в том, что иначе поступить было невозможно.
Штааль продолжал благодарить. Капуцин, очевидно тронутый, куда-то поспешно вышел. Через минуту он принес толстое коричневое одеяло, благодушно взглянул на гостя, видимо ожидая новых изъявлений восторга, затем пожелал доброй ночи и удалился. Штааль внес в чулан свой узел, запер дверь и с наслаждением принялся устраиваться на ночь. Повернуться в каморке было очень трудно. Но крошечные размеры и делали ее уютной. Он разостлал на полу одеяло, осторожно поставил фонарь так, чтобы не наделать пожара, затем снял сапоги, из которых полилась вода, вытер ноги, лег и закрылся плащом, подоткнув под себя края. Было все-таки очень холодно: видно было дыхание. Штааль встал, развязал узел и попробовал заткнуть платком отверстие в потолке, осторожно придерживая рукой веревку у края дыры. Как только он лег, платок вывалился, пламя свечи метнулось вниз. Штааль с проклятием закутался снова в плащ.
8
Он лежал с полчаса, не закрывая глаз, подложив под голову руки, чтобы согреть их. Вдруг он растерянно приподнялся на локте, – вспомнил, что не завел часов. Почему-то это чрезвычайно его испугало. Штааль поспешно наклонился к фонарю, так что на лбу почувствовал приятный жар свечи, разыскал ключ и завел часы, убедившись, что они не промокли в кармане. Грея руки над свечой, он стал соображать, какие еще вещи остались целы, – и внезапно, с невыносимым ужасом, увидел перед собой ту часть Сен-Готардской тропинки, где впервые на его глазах, шагах в двадцати расстояния, лошадь оборвалась в бездну. Он не слышал падения ее тела, слышал только глухой стон, пронесшийся по цепи солдат. Тропинка в этом месте имела не более шага в ширину. Штааль сам не понимал, как он мог здесь пройти, – у него в Петербурге кружилась голова на высоких балконах. Помнил, что впереди него перед этим местом казак сполз с коня назад через хвост, так как набок слезть было невозможно: слева была отвесная стена, а справа – бездна. Помнил, что он сам прополз по этому страшному месту, прижавшись к скале и судорожно вцепившись в руку шедшего впереди солдата. Свою лошадь, с привязанной к седлу шкатулкой, он отдал знакомому артиллеристу еще в самом начале перехода, как только увидел, что такое Альпы. Потом на глазах Штааля падали в бездонные пропасти не только лошади, но и люди. На это в конце перехода уже почти не обращали внимания.
Суворов всю дорогу ехал верхом впереди, в старом плаще, который в армии именовался родительским. В самых ужасных местах фельдмаршал проезжал над пропастями так же хладнокровно, как проходили над ними тавернские мулы. Он и теперь не остался на ночь в убежище, а, пообедав с монахами, в сопровождении проводника Гаммы и конвоя зачем-то вернулся в Айроло, – говорили, по делу, но скорее всего для того, чтобы ободрить сбоим примером солдат, которых сильно напугали Альпы, или чтоб крепче закалить самого себя (ему еще казалось мало). Об этом возвращении семидесятилетнего старика по такой дороге темной ночью Штааль не мог подумать без смешанного чувства ужаса, удивления и гордости. «Нет предела человеческой храбрости… Да, все беспредельно в людях», – думал Штааль, с содроганием вспоминая, как на его глазах казаки перестреляли пленных французов: делать с ними было нечего – припасов не хватало и для своих. «Чудеса храбрости, чудеса стойкости, зверства, самоотвержения, жестокости, безумия – это и есть война… Такова и жизнь, только в ней все мельче. Война – ускоренная, удесятеренная жизнь… Поэтому мы и любим ее так. Да, и я люблю ее. Люблю войну со всеми ее ужасами – лишь бы только пройти через это и остаться в живых и потом знать это за собою…»
В развязанном узелке еще были съестные припасы. Ему не хотелось есть, но одинокий ужин в холодной каморке имел в себе печальный уют, которым он утешался. Оставались в свертке бисквиты, ослиная колбаса, немного рома в фляжке и несколько огарков. Штааль приложил фляжку к губам и отпил большой глоток – пить так без стакана было тоже приятно. Затем он откусил кусок колбасы и – вдруг почувствовал волчий голод. Штаалю стали приходить на ум необыкновенные блюда с необыкновенными названиями – горб бизона, посыпанный порохом вместо соли, еще что-то такое. В узелке очень скоро остались одни огарки. Тепло медленно лилось от обожженного горла к ногам, которые теперь только отошли. Штааль был все еще измучен, но уже другой усталостью. «В шкатулке есть еще фляжка… Жаль, что нет шкатулки. Ну, да тот завтра отдаст, – подумал он. – После Чертова моста отдаст, если не убьют ни меня, ни его».
Чертов мост считался самым опасным местом похода. Здесь французы должны были оказать отчаянное сопротивление. За мостом, по сообщению австрийского штаба, противник уже нигде не мог закрепиться. А у Альтдорфа, на Люцернском озере, союзники заготовили флотилию, которая в полной безопасности должна была перевезти куда-то армию на соединение со свежими войсками Римского-Корсакова. Главное было уцелеть на Чертовом мосту. До него теперь было совсем близко. Офицеры знали от проводников общее устройство этого места. Сначала шла длинная узкая дыра, пробитая в горе: Urnerloch. Она вела в Чертову долину. Там над водопадом был переброшен мост. «Да, скорее всего, завтра в этой дыре и убьют», – думал Штааль. Мысль эта теперь не была ему неприятна. «Ну и убьют, одним будет меньше», – презрительно сказал он вслух. В душе он не верил, что будет убит, и думал о предстоявшем дне не как о конце жизни, а, напротив, как о начале чего-то нового. Самое название Чертов мост ему нравилось и волновало его, будто мост этот был какой-то аллегорический, вроде тех, что бывают в старых умных книгах. «Да, мост в новую жизнь… Разве я знал прежде, что такое жизнь? Разве они в Петербурге знают?..»
Он внезапно почувствовал беспокойство – в его сознании проскочил вчерашний Питер. Штааль вспомнил, что еще не подумал как следует о своей встрече с Настенькой. Но здесь, в чулане убежища капуцинов, после перехода по Сен-Готардской тропинке, он ясно чувствовал, что все это: и неожиданная встреча, и сама Настенька имеют очень мало значения – это было уже далекое прошлое.
«Старик Ламор говорил мне когда-то: не бойтесь вы женщин, которые ревнуют, делают сцены, угрожают, мстят. Бойтесь женщин, которые тихо и кротко любят… Эти – чума… Вот и Настенька такая, она не виновата, конечно. Но и я тоже не виноват… Как, однако, я мог тогда так огорчаться в Милане?» – спрашивал он себя и, к удивлению своему, не чувствовал прежней ненависти к Баратаеву. Это было и приятно, и немного обидно. «Да ведь, если говорить откровенно, старик был прав или почти прав. Как же ему было поступить с мальчишкой, отбившим у него содержанку?..» Штааль нечаянно употребил в мыслях слово «содержанка» и – тотчас почувствовал, что теперь, с этим словом, все было кончено. Никакой любви к Настеньке больше не могло быть. «Как она изменилась! Что он с ней сделал! Она и говорит теперь по-иному… “Мне недосужно” – это ведь его слово, я помню. Сколько ей теперь лет? – думал он. – Тридцать? Не боле». С цифрами женского возраста у Штааля почему-то связывались странные, довольно определенные представления: шестнадцать лет означали задорную шаловливость, семнадцать – мечтательную ласковую грусть, девятнадцать – порывистую задумчивость; восемнадцать лет почти ничего не означали или что-то очень тонкое, стройное, уходящее вверх. В двадцати пяти годах была неприятная развязность (гораздо лучше было иметь двадцать шесть лет). С цифрой тридцать лет ничего не связывалось. «Да, ей тридцать, не боле. Ведь всего два года прошло… Случай нас с ней столкнул, случай и развел. Всегда так… Где Коля Петров, где Дюкро, где Зорич, где Воронцов? Ведь и они, тогда казалось, были тесно связаны с моей жизнью. Были и нет их… Все, все случай. Так и завтра в Чертовой дыре убьет меня случайная пуля. Настенька поплачет, потом полюбит другого… Ну и пусть…» Штааль ясно себе представил, как придет в Петербург известие об его смерти. Никто не мог особенно огорчаться. Но приятную печаль Штааля усиливало сочетание слов, которые должны были появиться в ведомостях против его имени и чина: «…пал в сентябрьском на Чертовом мосту сражении».