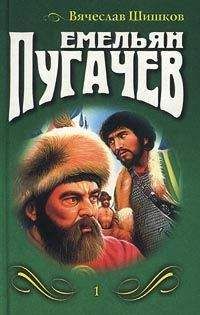— Ты что за человек? — спросил старика рыжебородый.
— Житель, кормилец, — краюха хлеба выпала из рук старика.
— Кажи паспорт!
— Нетути, кормилец, — и старик повалился в ноги рыжебородому. Тот вытянул его нагайкой, огляделся по сторонам, махнул своим:
— Эй, сюда!.. Ого, да тут много их, глянь, каких нор понарыли, что твои суслики. А ну, молодцы, пошукай!
Казаки бросились выгонять на свет живущих в земле людей. Выскакивали из нор старые и молодые, бабы, ребята. Казаки подстегивали их, вязали руки.
— За что экая напасть… Ой, господи! — вопили женщины. — Родненькие наши, помилуйте нас, пожалейте.
— Пожалеть? — взъерошился было рыжебородый, но сразу сбавил тон. — Я-то пожалел бы, да ведь с нас взыск. Поди, про старшину Бородина слыхали, про Мартемьяна? Он нас самих в нагайки. Черти-то вас носят, окаянных. Нет, чтобы куда подале схорониться, к городку претесь все.
— Нужда велит, кормилец. Ой, ослобони, родименький…
— Вот скажите без утайки, — важно подбоченился казак, — не слонялся ли промеж вас чернобородый такой, лет ему с тридцать пять, росту по приметам не больно высокого, взором нахрапист, а звать — Емелька Пугачев.
Вот, дедушка, укажи, где он, ты врать не будешь. Тогда живчиком развяжу всех, идите на все стороны.
Пугачев, лежа на противоположном берегу крохотной речонки, обомлел, вмялся в землю, затаил дыхание.
— Ну так как, дедушка? — переспросил рыжебородый.
Старик поднял с земли хлеб, сдунул с него песок, раздумчиво посмотрел за речку, в сторону Пугачева, затем перевел глаза на казака, сказал:
— Нетути, кормилец. Не примечали такого человека, — лицо его вдруг наморщинилось, борода затряслась, колени подогнулись, он охнул, схватился за куст.
Пугачев едва передохнул. «Ой, дед… Вот спасибо-то». Подбородок его дрогнул, сердце под рубахой заныло-застучало.
Рыжебородый приказал:
— Китаев с Конопатовым, гоните их в город на одном аркане, сколько их?.. Шесть, восемь, одиннадцать… А мы дальше.
Беглецов нанизали, как бусы, на длинную веревку. Беглецы тащили на себе немудрый скарб, крутили головами, крестились, плакали. Сзади всех была привязана маленькая, щупленькая, одетая в рвань девочка. Она семенила босыми ножонками, все оглядывалась да оглядывалась на свою пещеру, терла заскорузлыми кулачками глаза, обращаясь к верховому казаку, пискливо поскуливала: «Ой, дяденька, ой, миленький, я куколку забыла тама-ка.
Развяжи меня, я куколку возьму». Вот ее-то пуще всех было жаль Пугачеву.
Когда скрылись все и стало тихо, он подумал: «Ну, Омелька, берегись… А то висеть тебе, царю, на перекладинке». Он возвратился в умет ночью.
Как-то в конце недели, придя с охоты домой, встретил он в умете троих незнакомых крестьян с бритыми, как у каторжников, головами.
— На-ка, Степан Максимыч, вот животину добыл, — сказал он хозяину и сбросил из-за спины убитого сайгака. — Освежуй, брат, да свари похлебки с кашицей. А вы что за люди? — обратился он к крестьянам.
Хотя на Пугачеве — простая, запачканная сайгачной кровью, грубого холста рубаха и рваные коты, а на голове колпак из шерсти, но суровое выраженье загорелого чернобородого лица, властный взор и повелительный голос испугали крестьян, они повалились незнакомцу в ноги.
— Ой, желанный человек, мы беглые поселенцы, мужики, вот Алексеев да Федотов, а я — Чучков зовусь. И гнали нас из-под Москвы, с Коломны, на стругах, на вечное поселение в Сибирь-землю. Половина в дороге перемерла народу-то… Из Казани города мы, тройка нас, бежали да сюда ударились…
Уж не оставьте нас…
— Хорошо, братцы, не унывайте, — напуская важность на себя, говорил Пугачев. — Я вас не оставлю… А покудов живите свободно здесь. Только старшинских сыщиков страшитесь.
Ободренные крестьяне утирали кулаками слезы. Старший из них, Чучков, улучив минуту, шепотом спросил уметчика, что это за человек толковал с ними.
— А это дубовский важный казак, — скрытно, по-хитрому ответил Еремина Курица. Спустя два дня, нарядив крестьян на дальний сенокос, он уехал в Яицкий городок к знакомому казаку Григорию Закладнову.
В Яицком городке смятение и неустройство продолжались. Казаки ожидали своей участи по делу об убийстве генерала Траубенберга. А тут, после бегства казака Дениса Пьянова, распространились слухи, что у Пьянова-де суток трое жил некий «великий человек», а кто он таков — неведомо. Вместо скрывавшегося Пьянова полковник Симонов приказал схватить его жену Аграфену. На допросе под присягой и пристрашиванием она показала только, что был-де в их доме проезжий купец с черной бородой, из себя видный и нахрапистый, купил-де рыбы и уехал, а какой он человек, она не знает.
Аграфену продержали под арестом всю зиму и ничего не добились от нее.
Значит, ни начальство, ни казаки не могли доподлинно узнать, кто такой этот «великий человек» и зачем он побывал в Яицком городке.
Пока Пугачев сидел в остроге, слухи множились, приукрашались.
Какой-нибудь старый дед-казак, нос в нос соткнувшись с другим таким же дедом и взяв с того страшную клятву, шептал, что «великий человек», пожалуй, не кто иной, как сам батюшка государь Петр Федорыч. Денис Пьянов, мол, намеки делал.
— К рождеству в нашем городке объявится, свет наш, обещал.
— Не к рождеству, а весной, когда казаки всем гамузом на плавню соберутся, на багренье.
Да и среди казаков, что помоложе, всю зиму ходили упорные слухи. Так, на охоте за лисицами казак Гребнев повстречался с товарищем своим Зарубиным-Чикой.
— Будь здоров, Чика! Ну, каково промышляешь? А слыхал про добрые вести?
— Про худые слыхал… Будто в Оренбург указ Военной коллегии поступил, расправу над нами скоро будут чинить. Бежать доведется. А добрые вести не про нас, брат.
— Есть добрые вести, ой, Чика, есть, только под большой тайной поведаю тебе. Гришка Закладнов быдто сказывал, что у Ереминой Курицы проживал купец. Закладнов купца того в умете прошлой зимой встретил. Купец спросил Гришуху: «Слыхал я, будто яицкие казаки в большой беде. Верно ли?»
Тот обсказал всю несчастную бытность казацкую. Купец записал слова его и молвил: «Я под видом купца посещу ваш Яик и буду иметь высокое пребывание свое у Дениса Пьянова», — сказал так и куда-то скрылся. Во, брат Чика…
— Любо слушать, — проговорил меднолицый чернобородый Чика, слез с седла и стал раскуривать трубку. — Ну, а дале что?
— А дале — Гришуха Закладнов быдто бы встретил купца вдругорядь.
Купец собрался от Ереминой Курицы в Мечетную к старцам ехать. Вскочил в седло по-молодецки, да и гаркнул: «Прощевайте, господа казаки! Был я у вас в Яицком городке. К весне опять буду с великими делами. Всех вас избавлю от лютых бед. Сабли точите да порох готовьте!» — стегнул коня плетью, да и был таков.
— Кто же он?! — вскричал, загорелся похожий на цыгана Чика.
— Великий человек. То ли обапол царицы живет, то ли сам кровей царских.
Слухи крепли. Казаки, таясь от баб и болтунов, не на шутку стали готовиться к встрече избавителя; не спалось, не елось — эх, только бы весна пришла!
Но пришла весна, рыбные плавни кончились, избавитель не явился.
Прошло лето, расцвели-разлапушились сады. И вместо избавителя пал на яицкое казачество громовой удар. Правда, приговор по делу восстания был значительно смягчен. Замест шестидесяти двух смертных приговоров чрез повешенье, четвертованье и отсеченье головы, «всемилостивейше» определено: шестнадцать человек наказать кнутом, вырезать ноздри, поставить знаки и сослать на Нерчинские заводы «вечно», кроме сего, шестьдесят восемь казаков наказывались более умеренно — от плетей и ссылки в Сибирь с женами и детьми до отдачи в солдаты. Все же остальное мятежное казачество, две тысячи четыреста шестьдесят один человек, от наказания пока освобождены.
Указано вновь привести их к присяге.
Меж тем возвратившийся уметчик Еремина Курица, войдя в хомутецкую, немало удивился: Пугачев, положив локти на стол и шевеля бородой, читал вслух книгу.
— Не пожелаешь ли послухать умных слов? — обратился он к хозяину и подал ему книгу. — Вот книжица. Нюхни!.. Всем книгам книга, такой ни у старца Филарета, ни у губернатора нетути. Книга сия немецкая.
Пораженный уметчик, умевший кое-как читать, поднес книгу к подслеповатым глазам, — действительно, буквицы в книге не русские, книга в важнецком из свиной кожи переплете пахла кисловато, вкусно, на переплете золотой орел, обрезы золотые. Хозяин наморщил лоб, недоуменно задвигал бровями, спросил:
— Откудов, гостенек дорогой, эту премудрость добыл?
— Бог даровал, — уклончиво ответил Пугачев (он купил ее за две копейки в Казани на толчке). — Садись. Слухай.
— Да неужто маракуешь не по-нашенски-то? — озадаченно спросил хозяин.
— Кабы не знал, не стал бы. Я по-немецки буду умом читать, глазами, а тебе — по-русскому калякать. Чуешь?