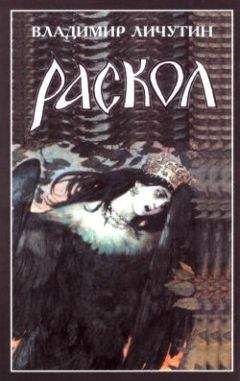Никон сокрушенно вздохнул, зябко поежился. В каменной келье холодно с утра, еще не протоплены печи; всю ночь шел обложник, и сейчас кропило; с крыши звучно, хлестко сбегала потока, наверное, уже перелилась через край бочки. На озере сейчас гуляют свинцовые волны, слегка притушенные дождем, рыба ушла в глуби, осота пожелтела и проредилась, трава в берегах полегла, и уже в последние разы перед зимою крестьяне выгоняют на поскотину коровок; поди, сгрудились в затишке, понурились и на несчастных скотинешек жалко смотреть.
Никон недоуменно оглядел на торчащего в безделье Мардария, вскинул кустистые брови, мучительно стараясь вспомнить, о чем просил келейник: вздорно чего иль по делу?
– Ну, что тебе от старика? Ночесь не спал и поутру ты, как злой пристав…
– Великий патриарх, любя прошу, не мужиковствуй! – вдруг решительно выпалил монах, вздернул головенку. Тихой-тихой, а тут как под ребро петуха вздрючили. Никон с особенным любопытством взглянул на Мардария. – Святый, что же ты роняешь себя пред временниками? Гостюют всякие днями, а то и седьмицами, наш хлеб едят, твоим вещим словом окормляются, а после за твоей спиной несут про тебя всякий вздор: де, церкви не чтишь, царя поносишь и баб блудишь. Враки ведь все! Мне ли не знать!
Никон не стал допирать, на кого ссылается келейник; и верно, что по смерти царя много шляется путевого народу, да и в братии шатания, и некоторые уже покинули старца, ушли в Белозерье. А там-то рады наговорам, ужо помоют косточки невольнику: то-то икается…
– А ты чужого сору не собирай, – сурово сказал Никон. Будто не дошло, о чем речь ведет Мардарий. – Из Москвы сплетки? От братьев Лопухиных? Иль при них что лишку сболтнул? Дак то с великого горя. Сам помнишь… Иль кто из моих наушает? Показывают на Иону, да я что-то не верю… Но ты сору не выметай и не сбирай, не мне его знать. Без греха рожи не износишь, а что лишнее наплетут, дак ко мне не липнет…
– А я и не собираю, батько.
– Вот и не сбирай… Слушай, а с чего ты вдруг взял, такой разумник, что я мужиковствую? И слово-то выдумал, как филозоп запешный. Мужи-ков-ствую. Ха-ха… Сынок, да просто старый я стал дрын, окривел на два глаза, охромел на обе ноги, руки будто решето, а за плечами горб. Вот и не видкий, ничего меня не личит, лепости во мне нет. А вы, сукины дети, любите видких, идолов лепите, чтобы поклоняться. Ох-те мне, и что на вас наслать? Какую грозу?
Никон помолчал, пожевал тухлыми в пятнах губами, глядя куда-то поверх острой головенки монаха, в которой, ишь ли, оказывается, варилась несуетная мысль. Но не дождался от Мардария возражений и продолжил со смирением, странно заискивая перед келейником:
– Нет, я не мужиковствую. Но я сын хрестьянский. Я только образом Христос, а плотью-то мужик. Может, я мужицкий Христос? И чего мне стыдиться, что я мужик, б… сын? Меня однажды собинный друг Алексей Михайлович такочки обозвал, осердясь: де ты, Никон, б… сын. И я тогда по глупости обиделся на него. А сейчас думаю: дурак был, на что обижался-то? Хрестьянин я, значит, крест на раменах несу, его страсти терплю. Потому я мужика и чту, и величаю пред иными, и в обиду не даваю. Вот посмотри, Мардарий, на руки мои, есть ли в них что господское? Коряги еловые, а не руки, но сколько знатных людей целовали их; сколько раз государь лобызал и уливал слезами; сколько народу благословили они, осенили знаменем, скольким священцам вбивали науку, боярам грозили, давали острастки, монахов лупили шелепом, абы плетью. И не чудно ли то? Вот эти каравые, как древесные коренья, руки, бывало, далеко простирались над Русью, под эту десницу вставали полки, что шли после под Варшаву и Вильну, Стокгольм и Киев. Но ни разу я и пальцем не обидел мужика. Чего не было, того не было. – Никон вдруг смутился, но не от похвальбы, а ему нечаянно вспомнилось полузабытое. – Ну раз ежли. Помню, бил одного рыбаря плетью. Так уж крепко он тогда досадил мне…
А нынче-то ничего во мне от мужика не осталось, одна каравость да нос дулей до губы. Рак-каркун, пятюсь задом от смерти ли, иль от лишней досады. Раньше рогозницы с солью на семь пуд бегом таскал на насаду, аж сходни гнулись. А мужики-то под мышки хватали по два куля разом, по одному зазорно было…
Вздохнул Никон: сколько похвалебного из своих забот мог бы вспомнить русский патриарх на десятой той седьмице, но отчего-то особенно почестными и достойными оказались простые житейские случаи, и вокруг них, самых-то обыденных, и выстроилась вся видимая его судьба.
– Нет, я всякую работу любил, и она меня любила. И молитву, и послушание. Работа на ногах держит, а заленивел чуть – и повалился на лавку. Не упрятали бы сюда, так я бы еще ой-ой, хоть куда… И всех болящих так наставлю: труждайся в меру, не надсажайся, не пори горячки, блюди праздники и посты, чти Господа нашего и родителей своих, люби ближнего, не задорься на лишнее, не кланяйся мамоне и подавай милостыньку не скупясь. И станешь долголетен и всеми уважаем. И неприметно работа телесная, утробная перетечет в работу духовную, и в той дружбе души и тела человек долго здоровым бывает, пока смерть его не приберет… Ой, братушко, так ли хорошо здоровым-то помереть… Вот ты спросишь: а почто ты, батько, такой хворый до времени? А то и хворый, что порато надсажался, меры не знал, все хотел на себя взвалить, и потому часто не люб бывал и к другим немилостив. Все! Все батько про себя знает, по себе, грешному, плачет в тиши и просит Господа, чтобы к себе прибрал… Мужики, Мардарий, что и монахи, часто смерти у Господа просят; намаются на земле-матери, тащат крест Христов, так ли наломаются, воз бытийный таща, что терпежу уж нет у них, так захочется им покоя на том свете… Иль у батьки Никона голова сколь огро-мад-ная, что тебе пивной котел, много она всего помнит, но наступает, милый, такое времечко, когда знания уже в тягость. Одно сокрушение от них и печаль. Пусть клевещут на меня клеветы и таскают на земные судилища, и томят в темничке; неведомо кобыльникам, что нет для меня земного суда, а ответ я дам пред Господом. Ну что раззявился, Мардарий, иль что-то хочешь сказать мне?.. Леноват ты стал, братец, иль так поманило мне?
– Не леноват, святой отец, а за вас страшуся. Не бережете вы своего великого имени, принижаете славу, топчете под ноги. Иль на вас дурно раскольники действуют? И от них хулы, грязь ручьем, никак не устанут досаждать.
– Я не унываю и не скорблю, но жалею заблудших. Пришел неузнанный, ушел оплеванный, восстану осиянный в новом свете… Ну, будет стенать. И перестань оговаривать патриарха. Много попускаю тебе, любя. Собирайся в Москву, я тебе тут новый список припас. Что на торжище не сыщешь и в рыбных да мясных рядах, то в царской аптеке спроси, да в иноземной лавке. Смотри, чтобы не надули. Они на это дело мастаки, лупить кожу с живого.
– У арбуев, денгов и немцев много всего есть. Давно протоптали дорожку к агарянам в Персиду да в Индию… Это мы застряли на своем печном шестке, да тут и замерзли, – ответил Мардарий, испытующе взглядывая на старца.
Норовист владыка, у него семь пятниц на неделе и неведомо, куда нынче повлечет его сполошливый ум. Ишь ли, однажды под греков подпал, под их дудку заставил всю Русь плясать, а нынче и не вспомнит о той затее, и стали греки – первейшие враги… Ой, сколь схватчив человек и смел мыслию; старик ведь, борода вехтем, а головизна светлая, как у отрока.
Дьякон неведомо отчего умилился, стряхнул с души утренний сор и обиды, низко поклонился и окстился на Никона, как на икону. Старец заспанно взглянул на келейника и не понял его восторга.
– И слава Богу, что на печном шестке замерзли. Отогреться-то недолго, – назидательно заметил монах. – Сунулись бы дуриком в огонь, живо бы спеклися, остались бы зола да уголье. Надо всякому человеку жить по своему обычаю, не быть обезьяною, и если сыщется в чужой земле чего разумного, а там кой-чего есть, то перенимать к себе нужно исподвольки, постепенно, мало-помалу, чтобы стало всем добро, а не худо. – Никона потянуло на разговор. Незаметно разгорячившись, чувствуя, как запылало лицо, старец забыл о сне, утренней молитве, нарочных указах строителю Ионе и о больных, что уже толкутся возле патриаршьей кельи, спрятавшись от дождя в проезде Святых ворот, боясь докучать старцу преж назначенного часа. Болтлив стал Никон, забывчив и склонен к похвальбе, а это первые приметы старости. – Я, Мардарий, никогда не жалел времени на врачевальные книги, когда Господь мне жаловал чашу лекарственную… «Травник из Персиды» прочел, грек его переводил, «Травник Любчанина» и «Травник Фомы Бутурлина», переведенный с польского вовсе не глупым паном Станиславом Стачевским, знаком с Никоном Черногорцем, впитал всего Иоанна Златоустого, многое почерпул из кладезей «Древнерусского лечебника» и «Науки лекарской». Изрядно в этих трудах житейской мудрости, много любопытного взято от матери-земли и всех стихий, окружающих ее. Но вся врачевальная наука, как бы ни исхитрялась она в познании недугов и страстей человеческих, исходит из одного незыблемого корени: грех есть болезнь – и болезнь есть грех. Копни глубже во всякой хвори, и ты найдешь небрежение Господними заветами и заповедями святых. Не исцелив души, не поправишь и плоти, но лишь загонишь болезнь в самую коварную глубину, где живут бесы. Молитва да исповедь, да святое причастие – вот лучший лекарь, а все иное – лишь в подмогу. Вот придет болезный ко мне за советом, охает да скрипит, как древний очеп, на несчастном лица нет; возьмешь его за правую руку, взглянешь в глаза и тихохонько, кротким голосом лишь посоветуешь, еще не зная о недуге: говори все, как на духу. И словно бы что вдруг пробуждается в больном, возгорается, светом омывается, и весь вид сразу становится иным, преображается, надежда просыпается… Дух лечить надо, а травки всякие даны Творцом в подмогу, напоминание, что не покинуты на земле без присмотра… И знахарка те же травки берет, что и мы, но мешает-то их на тьме египетской, на чарах бесовских, на слове колдовском, на зле сатанинском и на хитром умысле, почерпнутом из «Рафлей» и «Шестокрыла». А мы, монахи, кропим травки с иссопа святой водицей в полдневном свете пред Богородичным ликом и помазаем елеем и каждаем благовонием…