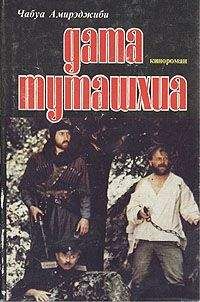Дембина срочно водворили в карцер на два дня – за оскорбление тюремной администрации! В карцер засадили по человеку с каждого этажа и, дабы проиллюстрировать действительность наказания, провозглашенного буллой, одному дали пять суток. Никакой ошибки – все четверо были штатными агитаторами подполья, а не какими-нибудь добровольцами, действовавшими, правда, еще активнее, чем работавшие по заданию, и потому, с точки зрения Коца, еще более виновные. Отсюда заговорщики, если тогда таковые имелись, должны были сделать два вывода: во-первых, что Коц намеревался твердо проводить намеченную им политику, и, во-вторых, он был прекрасно осведомлен обо всех тюремных делах. Оба вывода оказались правильными, так как он настойчиво продолжал наказывать агитаторов, и именно агитаторов, работавших по заданию революционеров. Подпольщики не отступали – усилили работу. Не отступал и Коц – усилил репрессии. Прошло полтора месяца, и начальники корпусов довели до сведения арестантов обещание начальника тюрьмы: с тем, кто попадет в наши руки во второй и тем более в третий раз, я расправлюсь так, что он не только навсегда отучится поносить царя и Государственную думу, но от стыда носа больше не высунет!
Не существует на свете загадок, которым арестант не отыскал бы точного решения,– это истина старая и всеми признанная, но разгадать смысл коцевской угрозы оказалось не под силу. Что мог придумать Коц, чтобы заткнуть рот этим красноречивым, прекрасно подготовленным, увлеченным пропагандистским делом гимназистам? Чем можно было их запугать, и на столько, что они носа от стыда не высунули бы?.
Поначалу в оргкомитете нас было семеро: Фома Комодов, Андро Чанеишвили, Алексей Снегирь, Амбо Хлгатян, Эзиз Челидзе, Петр Андращук и я, Шалва Тухарели. Дата Туташхиа в комитет, понятно, не вошел, но мы лежали рядом, и он не только был в курсе всех дел, но оказался невольным участником всех обсуждений и планов. Класиона Квимсадзе мы провели в старосты камеры. Он взял на себя наблюдение над подозрительными арестантами и обеспечение конспирации.
Тюрьма есть тюрьма, что-то идет само по себе, что-то для тебя и вовсе нежелательно, а ты вынужден мириться и даже приспосабливаться. Я говорю сейчас о Дате Туташхиа, который не захотел расстаться с Поктией, привел его в камеру и поместил рядом с собой. В конце концов Поктиа оказался парнем очень славным, но он был человек непроверенный, и это долго нас беспокоило. Удивительно, что предположение Фомы Комодова, будто Поктиа украл голубей у сына городового, оказалось точным, не считая одной детали: голуби принадлежали отпрыску военного прокурора! Поктиа скоро понял, какое серьезное и опасное мы готовили дело, счел за честь в нем участвовать и беспрекословно, осторожно и разумно выполнял все поручения, в том числе и довольно рискованные. Я сказал, что нас беспокоила непроверенность Поктии. Никто из нас не ожидал от него намеренной измены, но все остерегались его неопытности. Существовал, однако, и успокаивающий фактор: Поктиа почитал Дату Туташхиа за божество, сошедшее с небес, и слушался его беспрекословно.
– Завладеть бы как-нибудь ключами от камер и корпусов!– сказал как-то Петр Андращук.
– Ну и что? Массу может взорвать только аффект, а не то обстоятельство, что в одну прекрасную минуту откроют камеры. Камеры у нас и так всегда настежь открыты... Аффект нужен. А– для того чтобы вызвать аффект, повод, причина нужна,– кто знает, в который раз подчеркнул Фома Комодов.
– Умный человек мог бы подтолкнуть администрацию,– сказал Класион,– придумать бы что-нибудь такое... заставить ее пойти на крайние меры, и вот вам взрыв!
– То, что ты предлагаешь,– мошенничество,– возразил Фома Комодов. – Да, строй настолько прогнил, правительство так озверело, что не надо большого ума искусственно спровоцировать мятеж. Но масса инстинктивно чувствует эту спровоцированность. На такую приманку она или вовсе не пойдет, или поклюет, распробует и выплюнет наживку, то есть бросит нас на первых же шагах. А одного такого промаха достаточно, чтобы масса навсегда потеряла доверие и уважение к политической группе, спровоцировавшей ее выступление. Потому и нельзя этого делать, Класион!
– Ну что ж, напяливайте белые перчатки, поглядим, какой вы бунт устроите! – огрызнулся Класион. – Поживем – увидим, а мне не к спеху!
Действительно, оставалось только ждать. Казалось, мы в тупике и надо махнуть на все рукой, но у всех было предчувствие или надежда, у некоторых даже уверенность, что повод найдется. Все происходящее вокруг нас мы оценивали с одной точки зрения – повод это или не повод.
– Проповедник близок к открытию, запомни мои слова.– Дата Туташхиа иногда называл Класиона проповедником.
Я стал присматриваться. И правда, Класион расхаживал, хитро поблескивая глазами. Два-три дня он вовсе не разговаривал с нами, и на расстоянии чувствовалось, как мозг его работает не хуже паровой машины, даже шипение доносилось. Наконец запасы воды и угля, видно, истощились, и Класион шепнул мне на ухо:
– Шалва, я знаю, что собирается делать Коц с нашими ребятами.
– Что?
– Карцеры где?.. В полуподвальном этаже, так ведь?
– Ну?
– По одну сторону коридора карцеры, по другую – камеры. Так или нет?
– Да, камеры карантина и еще несколько других. Есть и на стороне карцеров камеры... две или три...
– А кто в этих камерах сидит, помнишь?
– В двух камерах – венерические больные... а в других... нет, не припомню.
– Ну, подумай, подумай... в восьмой камере, напротив карцеров!..– Класиона выводила из себя моя бестолковость.
– Ну, не помню, говорят тебе... Это что, экзамен? Говори, раз есть что сказать!
– Мужеложи сидят в восьмой камере, мужеложи, голова садовая!.. Диглиа, Дардак, Харчо, Дарчо, Алискер, Рудольф Валентинович... Постой, кто же еще?..
– Дальше, дальше... – Я, кажется, начинал догадываться.
– А дальше вот что. В карцерах гимназисты сидят у Коца по одному! Теперь представь себе... ночью откроет Коц дверь и впустит к нашему тщедушному Какалашвили этого слона Дардака!
Я обомлел.,. Прежде всего я подумал, что до такой мерзости никто в мире, кроме Класиона, додуматься не мог бы.
– Повод-то каков, а? – Класион излучал сияние, как победоносный военачальник или открыватель неизвестного материка. – Представь теперь, об этом узнает тюрьма!..
– Ни слова никому, Класион!
– То есть... почему?
– У Коца, может быть, этого и в мыслях нет, но если твоя идея дойдет до его ушей, он непременно за нее ухватится и осуществит!
– В том-то и все дело!
– Какое дело, черт тебя побери! Пусть этого и не случится вовсе, только версия распространится... Ты понимаешь, человек скомпрометирован навечно! Где ему высунуть нос?.. Каждый скажет: этот деятель, этот краснобай был женой Дардака,– каков! Ни слова об этом, ни звука! Ты что, дорогой? Думаешь, среди четырех тысяч семисот человек умнее меня никого не найдется?.. Зачем далеко ходить, наш абраг уже догадался обо всем, убей меня бог...
– С чего ты взял?
– А чего мне не брать, если вчера вечером после прогулки он велел Поктии отстать и точно разузнать, кто сейчас сидит в карцерах и поскольку человек в каждом. Зачем бы это ему понадобилось, скажи на милость? Ладно, из Даты твоего клещами не выдерешь, но ведь и другой догадаться может, и слух змеей поползет, дело ясное.
В конце концов мы с Класионом решили сообщить комитету о своих соображениях.
Нужно ли говорить, какую реакцию вызвало наше сообщение. Когда отхлынула первая волна ошеломления, мы принялись размышлять, годится ли эта ситуация как повод для восстания или нет и как нам быть?
– Если дело ограничится сплетнями, слухами и пересудами о намерениях Коца, то для взрыва этот повод совершенно недостаточен,– категорически заявил Класион.
– С этим я согласен,– поддержал его Фома Комодов.
– Что же будет достаточным поводом? – спросил Петр Андращук.
Каждый из нас понимал, что взрыв может состояться, если эта мерзость и вправду произойдет или произойдет другое столь же гнусное безобразие. Но кто мог решиться принести в жертву товарища, соратника, даже постороннего человека?
– Революция штука чистая, здесь грязь не пойдет,– сказал Амбо, и все почувствовали облегчение, оттого что должное сказано.
– Что правда, то правда, Амбо, друг мой,– откликнулся Класион,– но революция – это борьба, а борьба требует жертв, потерь, и когда вопрос касается бунта...
– Покороче! – прервал его Амбо.
Класион запнулся. Фома и Амбо по-прежнему смотрели ему в глаза. Дата Туташхиа, слушавший нас полулежа, выпрямился и тоже уставился на Класиона. Остальные сидели опустив головы. Я переводил взгляд с одного на другого.
– Это должно произойти... если вы хотите поднять бунт, непременно должно! – твердо сказал Класион.– Все вы думаете так же, но боитесь сказать вслух.