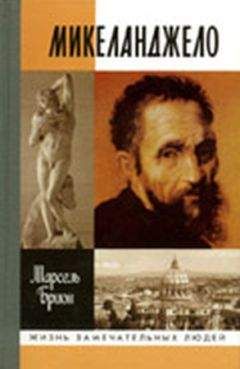— Скажи, Аверьян, какой он собой, наверное, богатырской породы, крепкий как дуб?
— Ну что ты, Никита, — крепкий как дуб! Он ростом такой, как ты, но щуплый, невзрачный на вид, ну, как все городские, и худой.
— Откуда же сила у него взялась?
— Взялась. Он все доискивался правды. И увидел, что простые люди живут очень бедно, голодают, прозябают в нищете. И дети у них растут несчастными, так как не каждый день видят кусок хлеба. Понял? Я, Никита, не знаю, почему открыл тебе душу, доверился тебе. А вдруг ты пойдешь да и расскажешь фельдфебелю?
— Аверьян! Клянусь отцом и матерью. Ну, богом клянусь — никому не скажу!
— Возможно, я ошибусь, но поверю тебе. Только хочу предупредить, ты ко мне больше не подходи, Никита. С завтрашнего дня держись подальше от меня, чтобы не навлечь на себя беду.
— А почему? Разве ты какой-то преступник?
— Не преступник, но могу не понравиться кому-то. Ведь еще не забыли, что мой отец когда-то пострадал из-за знакомства с хорошими людьми. Да я не боюсь. Я не совершил ничего плохого. Но береженого бог бережет, как говорил мой дед. Не подходи больше ко мне.
— Да почему? Наши койки стоят рядом, не я же эти койки поставил.
— Конечно, не ты, но придраться могут к чему угодно.
К ним подошел сосед Никиты по койке с левой стороны.
— Э! Брат хохол! Прячешься от меня, не хочешь угостить махоркой. Так курить охота, что даже пятки чешутся. Скупердяй!
— А он и мне не давал, — сердито отозвался Аверьян, — еле выпросил. На самом деле скупердяй. Вцепился в свой кисет, как кот в сало.
— А почему я должен со всеми делиться? Мне отец прислал два рубля, что же теперь всех табачком угощать? Дружба — дружбой, служба — службой, а табачок — врозь.
— Что, все ваши полтавчане такие скупые?
— Разные бывают. А вы какие? Сначала Аверьян приставал, теперь ты. Раздам все, а сам что потом буду курить? Разве пачки, что выдают в цейхгаузе, надолго хватает? Надо прикупать. Давай бумажку, насыплю, но завтра не дам.
— Так и знал, что ты сам себя раз в год любишь, полтавский галушечник.
— А ты курский соловей, да поешь плохо.
— О! Сцепились. А кто же я? — подбежал еще один «стрелок» за табачком.
— А ты вятский лапотник! — захохотал Аверьян. Хохотал, а на душе кошки скребли. Рад был, что Никита сумел свести разговор со словоохотливым курянином к шутке, да еще и выдал себя за скупого. Обманул его.
— Никита! А завтра дашь табачку? Хоть на две самокрутки, — льстиво подкатывался к Никите Аверьян.
— Нет! Сегодня угощал, а завтра — дудки!
— И мне не дашь? — спросил курянин.
— Не дам! С длинной рукой — под церковь! Там дадут!
— Жмот ты полтавский. Не знаю, зачем тебя в гвардию взяли. За щепотку махорки готов с Исаакия прыгнуть.
— Готов прыгнуть! Только вслед за тобой. Сначала ты, а за тобой и я.
— Тебя не переспоришь, — отошел курянин.
За ним поспешил и вятич.
— А ты молодец, Никита!
— Ты же сказал, Аверьян, что завтра не подойдешь ко мне. Пусть думают, что мы поссорились из-за махорки.
— Ты все больше и больше нравишься мне, Никита. Только не долго нам осталось быть вместе.
— Почему? Мне еще много лет служить. А ты куда денешься? Или, может быть, выйдешь в офицеры. Вот тогда и не подступишься к тебе.
— А как же… Эх! — вздохнул он. — Что-то сердце болит. Пойдем, скоро отбой.
— А о Каракозове больше ничего не скажешь?
— Скажу. Дмитрия Каракозова я хорошо знал по Москве. Был там кружок, который входил в организацию «Земля и воля». Кружком руководил Ишутин. И в этом кружке состоял Каракозов. Умный и смелый человек. Каракозов написал тайную листовку. Писал ее от руки и раздавал своим единомышленникам в Москве, а потом и в Петербурге. И я ее читал. В этой листовке Каракозов призывал народ к революции.
— К революции? Что это?
— Революция — это народное восстание, чтобы сбросить царя, чтобы жить по-новому, без кровопийц. Дмитрий решил убить царя. Думал, что после этого произойдет восстание. А оно, видишь, как обернулось. И восстания нет. И Дмитрий погибнет.
— А может быть, простят?
— За это царь не прощает. Его отец повесил декабристов, а этот Дмитрия будет миловать? Ой, Дмитрий, Дмитрий, друг мой. — И заплакал.
Никита смутился. Никогда не видел, как плачут мужчины. Хотел пожалеть товарища, но не знал, как это сделать. Только произнес одно слово:
— Аверьян!
А тот махнул рукой, вытер платком глаза. Они уже подходили к казарме.
На следующий день все было как обычно. Утром выбежали на гимнастику, затем позавтракали и вышли на плац. Начались привычные, будничные занятия, маршировали, кололи чучело, шли врукопашную рота на роту, потом опять маршировали. Так устали, что, как воробьи, налетели на борщ с мясом и гречневую кашу.
Был час отдыха перед муштрой по словесности. Бродили на плацу, сидели под деревьями на скамейках, разговаривали. Когда Аверьян подошел и попросил табачку, Никита гаркнул на него:
— Уйди! Все побираешься. Деньги есть, а сам просит, как босяк. Дай и дай! Уже надоело! Каждый день пристаешь. Больше не дам. Иди вон к тем хлопцам, может быть, они смилуются над тобой.
Солдаты подняли Аверьяна на смех. Все захохотали. Как раз в это время появился фельдфебель Петрушенко, он слышал, как ругался Никита, и, усмехнувшись в усы, мысленно похвалил его. Хороший солдат. И послушный, и дисциплинированный, гонит от себя ненадежных людей, что напрашиваются в друзья.
Гуляя, солдаты и не заметили, как командир роты через дневального вызвал к себе Аверьяна.
Не все обратили внимание, что Аверьяна не было на вечерней молитве и на вечерней поверке. Не обратили внимания, потому что фельдфебель не называл Аверьяна Несторовского. Никита сразу заметил, что его нет. Неужели арестовали? Может, узнали о его связи с Каракозовым? А кто же мог выдать, кто мог продать Аверьяна? Неужели фельдфебель Петрушен-ков? Но тотчас отбросил эту мысль. Петрушенков жестокий человек, но он нигде не бывает, кроме казармы. День и ночь здесь толчется, даже ночью на цыпочках крадется между рядами коек, присматривается, как спят подвластные ему солдаты, и только головой покачивает, слыша, как они громко храпят. Что же делать? Нужно во что бы то ни стало в воскресенье наведаться к Маше. Наверное, Петрушенков отпустит. Надо обязательно рассказать Мировольским об аресте Аверьяна. Как отнесется к этому Маша? Она же его двоюродная сестра. Арест Аверьяна — горе для нее и для Олимпиады Михайловны. Аверьян был в Петербурге единственным их родственником.
Как же ловко сделано! Никто и не заметил, как исчез Аверьян. Только утром, увидев постель Аверьяна нетронутой, во время гимнастики солдаты спрашивали друг друга, что случилось с Несторовским. Он не ночевал в казарме. Некоторые спрашивали Никиту, а он отвечал, что ничего не знает. Еще до вечерней молитвы видел его, а когда укладывались спать, Аверьян не явился, и фельдфебель ничего не говорил. Наверное, куда-нибудь в караул поставили, потому что в пирамиде его винтовки нет, сегодня утром мельком глянул — пустое место.
Хотя никакой вины за собой Никита не чувствовал, но на душе кошки скребли. В голове роились невеселые мысли. Невеселые и страшные. А что, если и его, Никиту, заберут вот так, как Аверьяна? Отгонял прочь эту досадную мысль. Он ничем не провинился. Не могут же ни за что ни про что упрятать человека в тюрьму.
Никиту будто посадили в клетку, из которой ему не вырваться. Чувствовал себя связанным. Когда же наступит долгожданное воскресенье? Осталось пять дней… А потом четыре… И вот воскресенье — самый большой для него праздник. Не думал, что так легко удастся отпроситься. В субботу подошел к Петрушенкову.
— Позвольте, господин фельдфебель, обратиться к вам, — сказал как можно учтивее.
— Говори, — отозвался тот.
— Разрешите завтра пойти в отлучку. Хочу еще раз посмотреть на императора Петра Великого.
Петрушенков окинул его равнодушным взглядом, но через мгновение лицо его расплылось в улыбке.
— Хорошо, Гамай. Пойдешь в отлучку. Давай за мной.
Никита послушно пошел за ним в его «каморку», как Петрушенков называл свой закуток.
Впервые фельдфебель впустил в свое логово Никиту. «Каморка»! Да сюда две наши запорожанские кладовки поместятся. Большая широкая комната. Возле дверей кровать. Дальше, за кроватью, стол, поставленный у окна. В углу небольшая пирамида с запасными винтовками. Да еще несколько винтовок грудой свалены за пирамидой. И тьма-тьмущая разных вещей.
— Вот что. Слушай, рядовой Никита Гамай, отпущу тебя погулять. Мы ведь с тобой земляки. И ты из Полтавской губернии, и я. Только смотри мне, чтобы в трактир не заглядывал да не набрался той самой, как дед мой говорил, оковитой[1]. Эх, соскучился я по нашей Диканьке. Можно было бы и домой, да встретил тут одну остроглазую. Как стрельнула своими карими, сразу сдался ей в плен. Остался на военной службе сверхсрочно. — Он продолжал, понизив голос: — Да и куда было возвращаться? У отца пятеро сыновей, а земли нет. Что там делать? Где кусок хлеба добывать для жены и детей? Спасибо царю-батюшке — освободил нас, а земельку — бог даст. А в панской экономии не хочу гнуть спину. Буду тут век доживать. — Прислушался, подошел к двери, открыл — никого нет. Погрозил пальцем и перешел на шепот: — Про студента Несторовского не говори никому. Господа жандармы тихонько взяли его вечером. Чтобы солдат не встревожить, вызвали его в полковую канцелярию — и квиты. Говорят, что кто-то на него донос написал о том, что он якшался с тем отчаянным, что в царя стрелял. Был такой разговор, а правда ли — не знаю. Молчи, никому ни слова. И заруби себе на носу — ты ничего этого от меня не слышал. — Он говорил и одновременно копался в деревянном сундучке. — Так вот, я и скажу тебе, Гамай. Слушай меня. Я должен хорошему знакомому три целковых. Вот видишь, — показал ассигнацию, — три рубля. Отнесешь их ему. Он живет на Васильевском острове, на Малом проспекте. Вот на этом листочке я написал, какой дом и какая квартира. Фролов его фамилия. Это, может, и не так близко от памятника государю Петру. Да у тебя ноги молодые. Дойдешь — быстренько-быстренько, туп-туп-туп.