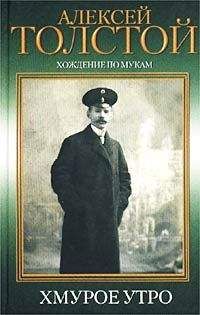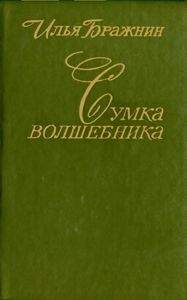Классная дама повернулась и вышла. Петрушкевич скорчила ей в спину страшнейшую гримасу. Аня, забыв обо всем, стояла посреди класса. Вошел Димитрий Сергеевич. От него попахивало водкой. Аня села на свою парту.
— Итак, — сказал Димитрий Сергеевич, подходя к доске и беря в руки мел. — Мы имеем уравнение…
Казакова, испуганно округлив глаза, раскрыла под партой учебник алгебры. Зашуршали синие обложки тетрадей.
Аня раскрыла тетрадь и начала было списывать с доски заданное уравнение. На первой же строке, однако, иксы и стоящие перед ними коэффициенты как-то странно затуманились, и сквозь них проступило лицо бронзового ангела, которое Аня напрасно силилась разглядеть во сне, которое напрасно старалась представить себе целое утро… Теперь черты его вдруг стали определенны и явственны. Она наконец узнала его. И это уже было не бронзовое лицо небожителя, а живое, розовое от мороза и ветра лицо с темно-карими глазами. От него исходили приятный холодок и свежесть…
Приходя на урок, Илюша растирал озябшие руки и щеки. Так было и в тот вечер после классной работы по алгебре. Он стоял перед столом и растирал щеки. Потом увидел, что «Фиорды» всё ещё лежат на столе, и, кажется, там же, где он их оставил в прошлый свой приход.
— Ну, как? Прочли что-нибудь из сборника? — спросил он и взял книгу в руки.
— Нет ещё, — ответила Аня, садясь за стол, и поспешно прибавила: — Я начала уже…
— Начали и вам, верно, скучно показалось? — усмехнулся Илюша несколько снисходительно и поглядел на Аню сбоку. Она почувствовала на себе его взгляд и ещё ниже склонилась над столом.
Начался урок. А когда он кончился и Илюша ушел, Аня тотчас схватила книгу. Рядом лежала физика. Бойль и Мариотт ждали своей очереди — уроки на завтра ещё не были приготовлены. Они так и остались неприготовленными. Бойль и Мариотт нынче не дождались своей очереди. Ане было не до них. В руке ещё жила приятная боль от неловкого и крепкого рукопожатия. Этой рукой Аня перелистывала серые книжные страницы. Они казались иными, чем третьего дня. А слова были всё те же: «мельница работала… сын мельника уехал…» — скупые и неяркие, как северное ночное солнце. Аня знала это голубоватое солнце белых ночей… Она выходила ночью на берег и садилась у самой воды. Река была огромной и спокойной. Всё вокруг было огромным и спокойным. Мерцающий воздух белой ночи, камни, дома и дальний берег Двины стояли в бледной невидимой сетке, и в то же время всё виделось необыкновенно четко, как не виделось днем.
Над книгой стояло голубоватое северное солнце. Аня не отрывалась от книги до рассвета. Она терзалась вместе с героиней её трудной и мучительной любовью; она плакала горькими слезами над её предсмертным письмом. И под утро с мокрыми от слез глазами списала из книги в свою общую тетрадь: «…что такое любовь? Ветерок, шелестящий в розах, нет, золотое свечение крови. Любовь — это адская музыка, заставляющая плясать даже сердца стариков. Она словно маргаритка, распускающаяся у дороги с наступлением ночи, и она словно анемон, закрывающийся от дыхания и умирающий от прикосновения.
Она может погубить человека, вознести и снова заклеймить его. Она может сегодня обратиться ко мне, завтра к тебе, а ночью к нему — так она непостоянна. Но она может также держать крепко, словно несокрушимая печать, и пылать неугасимо до самого смертного часа. Так вечна она… И любовь стала первоисточником и владычицей мира, но все пути её полны цветов и крови, цветов и крови».
Под утро она уснула, но, поспав часа два, поднялась, чтобы смыть холодной водой следы слез. Было ещё совсем темно, но бабка Раиса уже стояла у разверстого печного жерла и громыхала ухватами. На темном и морщинистом бабкином лице дрожали красные отсветы огня.
Аня остановилась на пороге — печь была таинственной пещерой, а бабка — сгорбленным темнолицым троллем…
— Андилы, — удивилась бабка, — что рано с постели скокнула?
Аня заспешила к крану:
— Надо, бабушка.
— А ты бы надобу под подушку.
— Нельзя, бабушка. Ни-и-как нельзя.
Аня весело вытянула своё «ни-и-как» и уткнулась лицом в свежее, до хруста накрахмаленное полотенце. Бабка пошла было зачем-то в сени, но Аня на полдороге перехватила её, сжала костлявые старушечьи плечи теплыми руками и звонко поцеловала сухой от печного зноя рот.
Бабка отшатнулась. За порогом взвился подол коричневого платья. Старуха оправила сбитый на сторону головной платок.
«Ах ты пагуба», — хотела по давней привычке выбраниться бабка, но губы дрогнули и тихо выговорили:
— Храни бог:
Бабка подняла сухонькую, сморщенную руку и перекрестила дверь, за которой стучали, удаляясь вверх по лестнице, бойкие веселые каблучки.
В гимназию Аня пришла раньше всех и долго сидела одна в полутемном классе. Потом начали собираться подруги. Аня смотрела на каждую, сравнивала с той, чьи маленькие ноги нынче ночью ступали по цветам и крови, и думала — нет, не такая…
На последней парте сидела маленькая Чиркова. У неё были остренькие, костлявые плечи, остренький носик, — вся она была остренькая, угловатая, некрасивая. Она сидела в седьмом классе второй год. Её не любили, ей не давали списывать классные работы, случалось, толкали под локоть, когда она писала. Чиркова испуганно моргала глазами и ставила кляксы, но не жаловалась.
К этой хлипенькой Золушке и потянуло сегодня Аню. Она подсела к ней и ласково заглянула в глаза:
— Скажи, Чирок, что ты вчера делала вечером?
Чиркова виновато потупилась и быстро, будто оправдываясь, ответила:
— Сначала уроки делала. А потом, потом ничего не делала.
— А я книжку читала. Такая книжка, такая, знаешь…
Чиркова ничего не знала. Она не знала и не понимала и того, зачем подсела к ней Торопова, которая с ней раньше не водилась, и почему так необычайно ласков и тих её голос, и почему у нее такие глаза, будто она разговаривает с ней через какое-то ей одной видимое пространство, занятое ей одной видимыми вещами.
— Ты одна живешь дома? — спросила Аня, облокотясь о парту.
— С мамой и с братом.
— У тебя красивая мать? Как её зовут?
— Агриппина.
— Агриппина? Какое красивое имя. Такое торжественное. А брата как зовут?
— Брата — Ваней.
— Ваня… Ваня… А ведь это тоже, в сущности говоря, красивое имя.
Аня задумалась. Чиркова сидела маленькая, серенькая, нахохлившаяся, как воробей в стужу. Но Аня видела её другой.
— Ты необыкновенная, знаешь, Чирок, ты необыкновенная.
Дыхание прервалось непонятным волнением. Аня замолчала. Чиркова вздохнула:
— Я глупая. Я вот урок хорошо выучу, а меня учительница вызовет, и я вижу — она думает, что я не отвечу, потому что глупая, тупая. И как увижу это, так не могу уж ничего и обязательно плохо отвечу. Так всегда.
Чиркова осеклась. Дернулась меж острых лопаток жидкая косичка.
— Зря я всё это. Теперь ты меня жалеть будешь, а мне хуже оттого.
— Нет, — придвинулась к ней Аня, — нет, — повторила она порывисто. — Нет, Чирок.
— Меня Анютой зовут, — тихо уронила Чиркова.
— Вот и чудно. И меня Анютой. Ты только не думай, пожалуйста, не думай вовсе о злом. Зло — это случайное в жизни, понимаешь, случайное.
Она придвинулась к Чирковой вплотную. Она хотела передать ей всё тепло своего тела, и ей было стыдно перед этой маленькой девочкой, что оно большое, и радостное, и здоровое, радостное вне воли и дум, радостное даже от грусти.
— Ты любишь книги? — спросила Аня, помолчав.
— Нет.
— Не любишь? — удивилась Аня. — Но почему же? Там всё такое необыкновенное. И чувства. И люди.
— Я обыкновенных люблю.
Они снова замолчали. Аня смотрела сквозь окно на улицу. В классе зажгли огонь. Чиркова уткнулась в учебник физики. Она знала урок, но ей всё казалось, что она что-то забыла и если её вызовут, то спросят как раз то, что она забыла. Её в самом деле вызвали. И в самом деле, когда учитель физики спросил о законе Бойля-Мариотта, то как раз этот закон и выпал у неё из памяти. Она получила единицу и, опустив голову, бочком пробралась на место.
Аня смотрела на Чиркову, и в груди её жалостно саднило. Она раскрыла общую тетрадь, потом закрыла и вдруг сказала громко, на весь класс:
— Чиркова знает урок. Спросите её ещё.