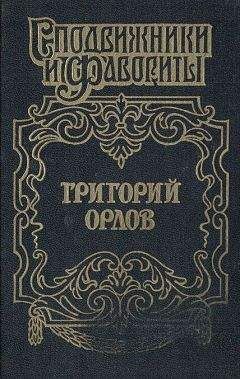Этот несчастный государь, который так мало походил на своих предков, для которого избрание в наследники русского престола стало столь роковым и который, как бы в печальном предвидении предстоявшей ему судьбы, всю жизнь питал в своем сердце страстное тяготение к своей родине, был изображен на портрете в голштинской форме, со звездой прусского Черного Орла рядом с орденом Андрея Первозванного. Эта комната его сына была единственным местом во всем дворце, где его портрет дерзали повесить. Никто другой не посмел бы выказать такое внимание к его памяти. Правда, не было недостатка в нашептываниях, старавшихся выставить это почтение сына к усопшему отцу как признак недостаточной почтительности и любви к государыне, но сама Екатерина Алексеевна, увидев в одно из своих посещений наследника портрет низвергнутого ею супруга, ни единым словом не выразила своего неодобрения или желания, чтобы его убрали. Таким образом, портрет остался на месте и был постоянно украшен венком из иммортелей. И часто великий князь со сложенными руками долго смотрел на своего отца, словно хотел в его бледном, скорбном лице прочесть решение загадки, окутавшей конец его царствования и жизни, а большие, печальные глаза государя, в свою очередь, как бы спрашивали, не готовит ли судьба его сыну столь же трагической участи.
Войдя в свою комнату, великий князь быстро сбросил с себя шляпу и шпагу и, в изнеможении от усиленной ходьбы опускаясь на мягкий стул, воскликнул:
— Пойди скорее в приемный зал, Андрей Кириллович! Там садовник ежедневно наполняет вазы живыми цветами; выбери из них самые красивые. Самые красивые, слышишь? И принеси их сюда!
— Слушаю, ваше императорское высочество, — с удивлением сказал граф Разумовский. — Но я, в сущности, не понимаю; я никогда не замечал, чтобы вы, ваше императорское высочество, так любили цветы.
— Я и не люблю их, Андрей Кириллович; я предпочитаю деревья, которые стоят прямо, как исправные солдаты, и с которыми ветер не может играть. Но видишь ли, мы — мужчины, мы — солдаты; нам подходит то, что по правилам и в порядке растет прямо вверх, но дамы — их символ цветы, которые так же нежны, легки и гибки, как они сами; вследствие этого дамы любят цветы, и принцесса Вильгельмина больше всех; она сама мне сказала об этом.
Разумовский, слегка вздрогнув, вопросительно посмотрел на великого князя, затем низко поклонился и сказал:
— Иду исполнить приказание вашего императорского высочества.
Великий князь, оставшись один, быстро и беспокойно прошелся несколько раз по комнате, вытирая платком свой горячий лоб.
— Да, — сказал он, — да, на ней я остановлю свой выбор! Она горда, смела и мужественна, она совсем иная, чем ее сестры, с которыми я не могу сказать ни слова. Она будет поддерживать, ободрять меня, когда на меня нападет робость, с которой я часто не могу справиться… Да, мое решение принято, не буду более колебаться. Государыня желает этого; она поймет, что ее сын — уже не ребенок, когда он будет иметь свое собственное семейство… У меня будет свой двор, я буду господином в своем доме, да, по крайней мере, в своем доме господином, — добавил он с горечью, — так как иначе я нигде не могу быть господином в этой стране моих предков… И у меня не будет больше воспитателя и указчика, когда у меня будет жена… Я люблю этого славного Панина, он предан мне и был бы готов отдать за меня свою жизнь, но мне уже двадцать лет, и я мог бы в конце концов возненавидеть своего доброго друга, если бы он еще дольше остался моим воспитателем.
Граф Разумовский вернулся обратно; он принес большую серебряную вазу, наполненную всевозможными цветами.
— Вот, ваше императорское высочество, — сказал он, смеясь, — я думаю, этого будет достаточно; я обобрал все вазы и вынул из них самые красивые цветы.
— Дай сюда, дай сюда! — живо сказал Павел Петрович. — Я хочу послать букет принцессе Вильгельмине. Ты снесешь его ей, так как этикет запрещает идти мне самому, но, — продолжал он, нерешительно перебирая цветы в вазе, — как нам это сделать? Ты не можешь нести ей все эти цветы; мы должны составить нечто красивое, нечто полное значения, а этого я не умею. Я слышал однажды, что цветы имеют свой собственный язык; арабы пишут друг другу письма, выражая свои мысли названиями цветов; не слышал ли ты чего‑нибудь об этом? Теперь был бы случай воспользоваться этой речью цветов.
— А что хотелось бы вам, ваше императорское высочество, выразить на этом языке? — спросил Разумовский.
— Я хотел бы сказать ей, — оживленно воскликнул Павел Петрович, — что люблю ее… — он остановился. — Люблю ли я ее, — продолжал он, — этого я совсем не знаю; мою бедную маленькую Соню я любил иначе; она была ребенком, с которым я резвился, и ее кроткие, ясные глаза оставляли меня спокойным. Я был огорчен, когда моя мать отослала ее отсюда, сказав мне, чтобы я больше не смел видеться с ней, так как должен выбрать себе супругу; я отнесся к этому разумно: ведь она не могла оставаться у меня; она будет счастлива, если, поплакав немного, вскоре утешится и позабудет обо всем. Но зато взгляд принцессы Вильгельмины, — воскликнул он, причем глаза его заблестели, — не оставляет меня спокойным и тихим, он заставляет мое сердце биться сильнее. Под влиянием беспокойного порыва я хотел бы броситься и сделать для нее что‑либо, и, если бы она стала моей, я не расстался бы с ней, как расстался с маленькой Соней; я держал бы ее крепко и защищал бы против целого мира!
— Ну, ваше императорское высочество, — ответил на это Разумовский, — если дело обстоит так, то ваши преданнейшие слуги вскоре будут иметь новую повелительницу.
— Они будут ее иметь, Андрей Кириллович, — сказал великий князь, — они будут ее иметь!.. Но теперь эти цветы, как мы это сделаем?
Разумовский в раздумье посмотрел на разбросанные цветы и сказал:
— Вот, ваше императорское высочество, эта полураспустившаяся роза изображает принцессу!
— Совершенно верно, совершенно верно! — воскликнул Павел Петрович, — Но все же роза слишком хрупка, нежна, ведь принцесса более жизненна, более смела, горда.
— Мы окружим эту розу, — продолжал Разумовский, — свежей зеленью; это будет надежда, которая в своем страстном порыве приближается к ней.
Павел Петрович одобрительно кивнул головой.
— Под розу, — сказал Разумовский, — мы положим эти гранатные цветы; это будет любовь, которая через зелень — надежду — стремится к ней вверх
— Совершенно верно, совершенно верно! — воскликнул великий князь, со счастливым видом хлопая Разумовского по плечу.
— Теперь, — продолжал тот, — мы окружим букет всевозможными пестрыми цветочками; они будут символом богатого счастья, которое будущее готовит юной розе; а эти цветочки, — продолжал он, — мы обовьем лентой. Да, ваше императорское высочество, ленту‑то я и позабыл; где мы возьмем ленту? Я позову камердинера.
— Нет, нет, — воскликнул великий князь, — это очень сложно и займет слишком много времени. Вот, — сказал он, снимая с шеи орден Святой Анны и отделяя ленту от креста, — возьми эту ленту, она более всего подойдет юной розе, к ногам которой я могу теперь положить только Голштинию, пока…
Он остановился и боязливо осмотрелся кругом, словно боялся, что его могли тайно подслушать.
Разумовский перевязал цветы голштинской лентой, а затем великий князь нетерпеливо стал торопить его скорее идти к принцессе и приказал ему тотчас же вернуться к нему, как только он исполнит его поручение.
— Да, это несомненно, — воскликнул Павел Петрович, прижимая к своему сердцу обе руки, — я люблю Вильгельмину!.. Так горячо еще никогда не билось мое сердце, я чувствую себя бодрее и крепче в ее присутствии… О, как она была хороша, когда скакала на лошади около меня и ветер играл ее локонами!
Как бы под влиянием счастливого воспоминания он посмотрел наверх, и его взгляд упал на портрет отца. Великий князь вздрогнул, на его лицо пали мрачные тени.
— И ты так же, мой бедный отец, — сказал он, — любил когда‑то, как и я; мне сказали, что любовь определила выбор, который ты должен был сделать… Моя мать, несомненно, была очень красива, если теперь еще она так хороша, — добавил он с горечью. — И куда, бедный, предательски свергнутый государь, привел тебя твой выбор? Вильгельмина — также немецкая принцесса; она также прекрасна, смела и жизнерадостна; почему бы и ей когда‑нибудь в своем нетерпеливом честолюбии не протянуть руки к короне, украшающей голову ее супруга?
Его лицо становилось все мрачнее; склонив голову на грудь, он долго стоял, погруженный в тяжелые мысли, причем губы его глухо шептали тихие слова.
— Нет, нет, — сказал он затем, дико потрясая головой, — прочь от меня, мрачные демоны, прочь от меня! Пусть ужас прошедшего скроется в глубине ваших бездн! Оставьте мне солнечный свет юной жизни! Нет, нет, если правда то, что вы нашептываете мне в бессонные ночи, то такое страшное может случиться только раз. Тысячелетия прошли с тех пор, как преступная рука Клитемнестры предала убийцам Агамемнона; так скоро природа не может повторять ужасы, требующие появления мстительниц–фурий из преисподней ада. Прочь от меня, ужасные видения, стоящие между кровавой памятью отца и матерью — матерью, которая носит корону… по старинному праву принадлежащую мне!.. Но она уже сделала для величия России более, чем мог бы сделать я со своей слабой юношеской силой. Для России я откажусь от всякой честолюбивой мечты, но в будущем обещаю посвятить ей все силы моего зрелого разума. Мой бедный отец сделался жертвой злого рока потому, что не понимал России и не был в состоянии научиться любить ее; я же люблю Россию и хочу научиться понимать ее, а Вильгельмина, к которой стремится мое сердце, должна укрепить и воодушевить меня к великому призванию моего будущего.