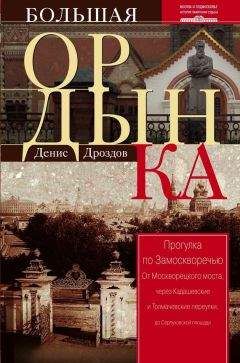Последние годы стерли память о тех, кто вошел в пьесы Островского. Россыпь ни в чем между собой не согласованных новых зданий превратила его сохранившиеся постройки в экспонаты краеведческого музея с его причудливыми и на первый взгляд необъяснимыми сопоставлениями: кость мамонта – колченогий стул из барской усадьбы – фото первой в районе фабрики. Органика живого города стала уступать условным правилам экспозиции: без перегрузки, с лучшими образцами.
Без перегрузки – это значит обречена неповторимая вязь переулков и улиц. Значит, растворятся черты градостроительного мастерства, знавшего, как уберечь улицы от сквозных ветров и холодов, устроить удобное жилье на все вкусы – от дворца до притаившегося в зарослях бурьяна и сирени обывательского домишки. С лучшими образцами – значит, присвоив себе право решать, что в каждой эпохе лучше или хуже. Относительно чего? Наших современных представлений или посылок тех далеких дней, о которых знаешь всегда недостаточно, всегда в скупо открывающихся пониманию сегодняшнего дня обрывках? Откуда бы иначе взяться всеторжествующему стереотипу восстанавливаемого в отдельных памятниках архитектуры ампира, жилья XVII века или ансамблей классицизма?
Угадать Замоскворечье бестужевских лет в живых чертах существующих зданий уже невозможно. Даже историку искусства. Даже просто историку со всем доступным ему багажом аналогий и фактов. Разве в узкой расщелине Климентовского переулка, потерявшего былые очертания при выходе на Ордынку: там пустырь у станции метро в рухляди наскоро сколоченного торгового развала, там исчезнувшие ради удобства подъезда к месту давно законченного строительства простенькие двухэтажные дома. Спору нет, домишкам не было места в истории архитектуры, и не примечательны они ничем, кроме того, что были живым существом Замоскворечья.
Или в похожем на лесную тропку развороте Голиковского переулка, уходящего за углом Климента к дому Островского. Не к тому, в котором родился Островский. Того давно нет. Почти на старом месте встал вылощенный до музейного глянца новодел, снаружи как каменный, внутри с нелепо обнаженными, залакированными бревнами – в подражание мифической избе – сруба. Кому была непонятна нелепость подобной затеи – неужели родители драматурга согласились бы жить в подобных комнатах! И все же оказалось невозможным устоять перед соблазном моды на разудалые терема-избушки повсюду – от кафе и автозаправочных станций до актового зала школы в Пущине.
Много раньше не стало церкви, к которой принадлежал первый в жизни драматурга дом. В тридцатых годах она уступила место жиденькому скверику – замена, слишком неравноценная для мемориала и для всей Москвы. Крохи прошлого – как же трудно их выбирать после бесконечных и неутомимо меняющихся решений об улучшении города. И почему-то ни у кого из градостроителей и архитекторов не возникает сомнения, что каждый новый замысел непременно должен превзойти опыт, знания, здравый смысл предшественников.
Там – плотно сбитый кубик дома с портиком поднятых на цокольный этаж полуколонн. Заказчики – Демидовы, архитектор – Осип Бове, время – первая четверть XIX века. Там – через улицу – приземистый особняк с уверенно прорисованной аркой центрального проезда под полукруглым окном мезонина. Владельцы – сменявшие друг друга купеческие семьи, строитель без имени и все то же начало прошлого столетия. Почти напротив Климента – более ранний дом Гологривовых, купленный казной и превращенный в 1830-х годах в Пятницкий полицейский дом с торчавшей над округой пожарной каланчой.
Современники Климента – отступившая к самому Обводному каналу колокольня церкви Иоанна Предтечи под Бором, завершенная в 1753 году. И, конечно, церковь Праскевы Пятницы, давшая название всей улице. Начатая в последние годы правления Анны Иоанновны, законченная в год вступления на престол Елизаветы Петровны. Коренастая, приземистая, с растянутой трапезной и крутой колокольней, напоминающей стиль одновременно возводившихся петербургских церквей с их заимствованной у Голландии простотой и сдержанностью архитектурных выдумок. Именно от Голландии – такова воля Петра, посылавшего на запад русских архитектурных учеников. Строивший Праскеву Пятницу Иван Мичурин из их числа.
По сравнению с живописцами, о которых неизвестно почти ничего, его биография выглядит на редкость полной. Дворянин из Галичского уезда на Костромщине, где до конца своих дней владел немудрящей деревенькой. В восемнадцать лет ученик петербургской Академии навигацких наук, еще через два года – итальянского архитектора Микетти. С отъездом из России учителя – петровский пенсионер в Голландии, «ученик архитектурного и шлюзного дела». Шесть лет занятий оказываются сроком, за который все успевает неузнаваемо измениться. Шлюзное дело никому не нужно. Единственная работа архитектору находится в Москве – составлять после страшного пожара 1737 года вошедший в историю под названием Мичуринского план старой столицы, сметы на «ветхости» и необходимые починки близлежащих монастырей и церквей, строить самому – от простых и примитивных до очень хороших и сложных работ. Все определялось возможностями заказчика.
Московские приходы с трудом оправлялись после пожарного разорения, Свенский монастырь вблизи Киева мог позволить себе великолепный монументальный соборный портал, который возводит московский зодчий. На Украине Растрелли доверит Мичурину строительство Андреевского собора и киевского дворца по собственным планам. Работа потребовала четырнадцати лет, но позже петровский пенсионер снова в Москве, привычный, всем знакомый, безотказный. Не Праскева ли Пятница из Замоскворечья убедила Растрелли в возможностях и высоком умении архитектора? Он возводит ее на средства купцов Журавлевых в 1739–1742 годах. Когда бы в диапазоне предлагаемых историками временных границ ни строился Климент, он строился при Иване Мичурине.
Хотя как определить понятие – современники Климента? По-видимому, просто – XVIII столетие. В многочисленных разнохарактерных очерках по истории русской и собственно московской архитектуры, справочниках, путеводителях ошеломляющий разнобой лет. Для одних – пятидесятые годы, последние в блистательной карьере и непререкаемом влиянии на строительные вкусы Растрелли. Для других – семидесятые, когда даже в глухой провинции, новообразованных губерниях законодателем моды становится торжественный и строгий классицизм. Для третьих – и вовсе двадцатые, когда все еще определялось взглядами Петра. А колебания внутри таких разных десятилетий! А разнобой с именами зодчих, не менее разных, не менее непохожих друг на друга – Растрелли, Алексей Евлашев, строитель исчезнувших Красных ворот и колокольни Троице-Сергиевой лавры Загорска Дмитрий Ухтомский… И все одинаково без документальных обоснований – без ссылок на документы и архивные источники.
Лондон
Министерство иностранных дел
Правительство вигов
– Милорд, свершилось! Петр I принял титул императора, Россия стала империей.
– Логичный вывод из того, что этому монарху удалось достичь. Я надеюсь, поздравительные письма готовы?
– Не извольте беспокоиться, мы не задержимся с ними. Кстати, еще одна небольшая петербургская новость – внебрачный ребенок у царевны Прасковьи.
– Любопытно. Но так ли важно?
– Думается, да, потому что отец ребенка Иван Дмитриев-Мамонов.
– Член Военной коллегии? Тот, что писал устав русского войска?
– Вот именно, милорд.
– И что же?
– В этом деле замешано слишком много и слишком влиятельных сановников.
– Даже так Но кто именно?
– Сообщил императору о рождении ребенка Павел Ягужинский. Их разговор оказался очень продолжительным, если иметь в виду нетерпеливый характер Петра.
– Ребенок, естественно, мужского пола?
– О да. После Ягужинского в спальню царя были вызваны сам Меншиков, покровительствовавший этой связи, любимый денщик Петра Василий Поспелов, в доме которого происходили их свидания, кабинет-секретарь императора Алексей Макаров и даже Остерман.
– И все они причастны к истории царевны?
– Как нельзя более.
– Это становится по меньшей мере любопытным. Но что же дальше?
– Для Остермана и Алексея Макарова все закончилось, по-видимому, крупным разговором. Меншиков понес физическое наказание от руки царя. Хуже всех пришлось Василию Поспелову. По утверждению нашего министра, он был трижды пытаем в спальне императора.
– Полагаю, виновные в соучастии не понесли сколько-нибудь серьезного наказания?
– Вы правы, милорд. Несмотря на пытки, Василий Поспелов на следующий же день стал пользоваться снова расположением царя. Впрочем, его связь с царевной была самой тесной.
– В каком смысле?