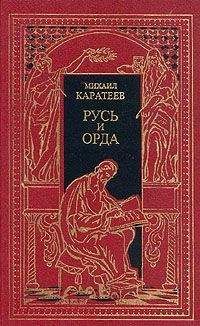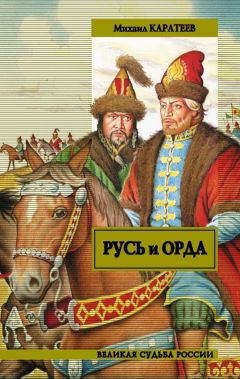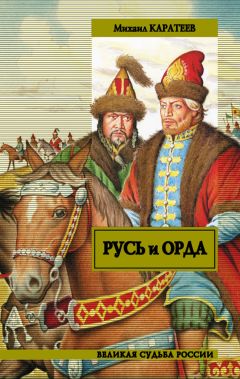– Что же думала ты, моя ласточка? Но не говори, я знаю и сам! Думала ты: завелась у Василея другая зазноба, и с разлучницей тою делит он время и шепчет ей слова ласковые…
– Ой, ужели ж то истина? – скорее жеманно, чем всерьез ужаснулась Аннушка, по всей повадке Василия понявшая, что подобная беда ее пока миновала.
– Стало быть, угадал? – засмеялся княжич, снова ее целуя.
– Угадал, Василек,– засмеялась и Аннушка.– Уж тебе ли не знать сердца женского, не ведать всех его страхов я помыслов? – с ноткой ревности в голосе добавила она.
– Что было, то ушло, люба моя. А сейчас для меня лишь ты желанна, и с тобою не хочу я мыслить ни о минувшем, ни о грядущем! Был бы я могучим волшебником,– каждый час, проведенный с тобой, обратил бы я в вечность!
– Как сказка золотая, речи твои, мой светлый княжич! И отколе только ты слова такие берешь?
– Для тебя, зоренька, еще и не такие найду!
– Ой, что же это я? – спохватилась вдруг Аннушка, в сенях тебя держу! Заходи в светлицу, а я сей же миг накажу, чтобы закусить нам подали.
– Не надобно, Аннушка, я не голоден. Вот разве медку холодного велишь поднести,– отказываться не стану.
– И медку поднесу, и закусишь со мною! Ужели хочешь лишить меня такой радости?
– Ну, уж коли то тебе в такую радость, будь по-твоему.
Когда молодая хозяйка вышла из светлицы, чтобы отдать нужные распоряжения стряпухе и служанкам, Василий опустился на крытую ковром лавку и глубоко задумался, в памяти его, день за днем, стала воскресать вся история их короткой любви.
Аннушка была дочерью небогатого н многодетного звенигородского дворянина Спицына, служившего в дружине князя Андрея Мстиславича. Однажды в Звенигород прибыл гонцом от карачевского князя немолодой уже сын боярский Данила Кашаев. Он увидел семнадцатилетнюю Аннушку на какой-то гулянке и сразу влюбился в нее без памяти. С нею он не имел случал перемолвиться хотя бы словом, но перед отъездом познакомился с ее отцом, а вскорости прислал и сватов.
Кашаев был мужчиною видным, хорошего роду, имел приличную вотчину под Карачевом и во всех отношениях являлся для Аннушки выгодной партией. А потому ее родителя, имевшие еще двух дочек на выданье, долго ломаться не стали, и участь Аннушки была решена, как тогда водилось, без малейшего ее участия в этом деле. Впрочем, Аннушка отнеслась к этому событию довольно спокойно и если поплакала немного, то больше для порядка. Она еще никого но любила. По любила, разумеется, и Кашаева, которого едва видела. Но отвращения он ей тоже не внушал, и она рассудила, что если, выдавая замуж, родители с ее желанием все равно не посчитаются, то судьба ее сложилась не столь уж плохо.
Вскоре сыграли свадьбу, и Аннушка переселилась в вотчину своего мужа. Кашаеву было под сорок, но человеком а оказался хорошим, жену любил, и жили они ладно. Может быть, Аннушка по-настоящему полюбила бы мужа и была бы с ним вполне счастлива, если бы в глубине ее души и таилось скорее подсознательное, чем явное, чувство обиды, что он приобрел ее как вещь, не постаравшись даже расположить к себе и не поинтересовавшись – свободно ли ее сердце?
Так прошло около трех лет. За год до описываемых событий Данила Кашаев, по поручению князя Пантелймона Мстиславича, отправился однажды, во главе десятка дружинников, в город Елец и по пути встретился с отрядом ордынского посла Кутугана, ехавшего в Смоленскую землю. Кутуган был ханского рода, н потому, по установленным еще при Батые порядкам, при встрече с ним полагалось сойти с коня к стать на колени. На Руси этот обычай давно никем не исполнялся, не исполнил его, конечно, и Кашаев, к тому же не знавший, с кем он встретился.
Кутуган ехал в Смоленск, по поручению великого Хана Узбека, наводить там порядки, а потому по дороге не упускал случая показать свою власть. Он приказал своим охранникам стащить русских с коней и поставить на колони насильно. Кашаев, не знавший он одного слова по-татарски, ничего не понял из того, что кричали окружившие его татары, но когда один из них ударил его плетью по лицу, он выхватил саблю и снес обидчику голову. Через несколько минут его собственная голова, а также головы всех его спутников были отделенные от туловищ кривыми татарскими саблями, лежали в придорожной канаве.
Аннушка, которой едва пошел двадцать второй год, осталась вдовой. Вотчина, унаследованная от мужа, давала ей возможность безбедного существования, но жизнь ее, протекавшая в обществе нескольких дворовых людей, была печальна и одинока.
Василия она впервые увидела на похоронах мужа, но, поглощенная своим горем, не обратила на него особого внимания. Зато он был поражен редкой красотой Аннушки и тронут ее несчастьем. После отпевания он приблизился к ней, в теплых словах выразил свое сочувствие и спросил, чем может князь помочь семье своего верного слуги? Она ответила, что ей ничего не нужно, но в душе сохранила к ному чувство признательности и в дальнейшие дни одиночества не раз вспоминала его ласковый голос. Василий же ни на минуту не мог забыть Аннушку. Казалось, нежный образ ее раскаленным резцом вырезан в его памяти и стал ее неотъемлемой частью. Он легко увлекался женщинами, любовь испытал уже не однажды, но на этот раз чувство его было глубже и сильней.
Через месяц Василий просил у отца дозволения отправить вдове Катаевой несколько возов различных припасов и подарков, в виде вспомоществования. Это было в порядке вещей: семьям убитых дружинников карачевские князья всегда оказывали подобную помощь. Но Василий просил гораздо больше обычного, да и в голосе его послышалось князю что-то особое. Он понимающе глянул на потупившегося сына и с легкой усмешкой сказал:
– Женить тебя надобно, Василей. Путаешься ты невесть с кем, а давно уже пора тебе помыслить о своей собственной семье да о продолжении рода.
– Еще успеется, батюшка,– ответил Василий, как всегда отвечал, когда отец заводил разговор о его женитьбе. – Жениться мне надобно с пользою для государства нашего, а такоже чтобы за жену не было стыдно перед людьми. А ныне такой я покуда не вижу.
Не видишь потому, что не ищешь,– проворчал старый князь и дал Василию просимое разрешение. Единственного сына своего он нежно любил, гордился им и стеснять его свободы не хотел.
Василий отправил Аннушке княжьи дары, а через несколько дней послал к ней, в сопровождении Никиты, чтобы узнать– как он сам себя старался уверить,– все ли ею получено и не нужно ли еще чего? Это их свидание было недолгим. Аннушка сдержанно и просто благодарила Василия за заботу, он был почтителен и несколько натянут. Ее траур сковывал ему язык, и она понимала это. Словами ничего в этот день не было произнесено, но глазами было сказано, а чувствами понято многое. С этого дня и она уже думала о нем непрестанно. В следующий раз Василий приехал только через два месяца, показавшиеся ям обоим двумя столетиями. Был конец ноября, земля уже покоилась под толстым покровом снега, но когда закоченевший в дороге княжич вошел из сеней в Аннушкину горницу, ему показалось, что сама весна шагнула к нему навстречу. В этот миг слова были излишни, и он молча сжал ее в объятиях.
С тех пор он ездил сюда так часто, как только позволяли ему обстоятельства, и привязывался к Аннушке все больше. Она была жизнерадостна, с нею никогда не бывало скучно, а любящим сердцем своим умела безошибочно улавливать все оттенки его настроений.
Много раз, пытаясь разобраться в своих чувствах, Василий спрашивал себя, что это: более сильное, чем обычно, влечение или же настоящая, единственная в жизни человека любовь? Сам себе в том не признаваясь, он страшился последнего. Страшился, ибо понимал, что в этом случае равенство положении встанет на их пути почти непреодолимой стеной. Пойдя напролом, жениться на Аннушке он, конечно, мог. Но это значило бы лишиться благословения, вызвать негодование всей родни и стать на Руси притчей во языцех. Даже на боярских дочерях князья женились редко, брак же его со вдовой безвестного служилого дворянина неминуемо был бы воспринят всеми как недостойный даже скандальный…
Конечно, в маленьком Карачеве, где каждый шаг Василия на виду, вскоре все узнали об этой связи. Но, кроме личных недоброжелателей княжича, никто их строго несудил: оба они были людьми свободными от каких-либо семейных уз, всякий понимал, что повенчаться они не могут, а нравы в те времена не отличались чрезмерной строгостью. Все же, отправляясь в Кашаевку, Василий всегда звал с собою Никиту, который, приехав в усадьбу, тотчас находив себе какое-либо занятие: чаще всего брал один из охотничьих луков покойного Данилы Ивановича и уходил в ближайший лес на охоту, а иногда принимался наводить порядок в хозяйстве Аннушки, указывая дворовым, что и как надо сделать или починить. Случалось, что у них что-нибудь не ладилось, тогда он брался за дело сам, и любо было посмотреть, как все спорилось в его богатырских руках.