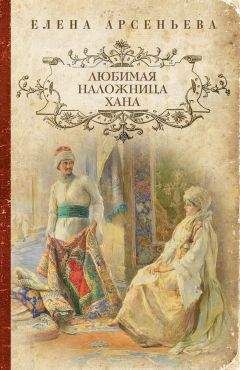И только царь вознамерился ступить на перекладину, как вдруг оттолкнул его неведомо откуль взявшийся раб, иль смерд, иль холоп, иль чужеземец в долгом кафтане, с развевающимися по ветру засаленными волосами; наморщенный войлочный колпак едва прикрывал темя. Беглец мельком оглянулся, и презрение выказалось в черных влажных глазах. И тут же, не мешкая, человек полез лестницею вверх; перед глазами царя замелькали стоптанные, с истертыми гвоздями подошвы. Каменная пыль сыпалась в лицо государю, и он тщетно уворачивался, прятал глаза, чтобы не ослепнуть. Торопясь оба, они понимали, что там, со взглавия стены, откроется им иной, новый мир, где и наступит спасение. Неведомый челядник первым достиг верха, одною ногою ступил на площадку, а другою встал на плечо царя и, воздев руки в кроваво-мглистое небо, вскричал победно: «О, Ие-го-ва!..» И тут царь понял, что настал его последний час; едва цепляясь за поручни, он обреченно воспринял, как непослушно слабеют пальцы, наливается тяжестью тело, уже готовое к смерти. И взмолилась страждущая его душа: «Господи, спаси и помилуй!» И неведомо откуда донесся совет, слышимый лишь государю:
«Отклони плечо, государь, отклони. Вражина и сверзнется». Царь удернул плечо, и торжествующий враг сорвался в пылающую бездну, и развевающийся кафтан над пламенным прораном показался царю черным опадающим крылом. Где-то внизу сатанаил, однако, схватился за лестницу и вновь упрямо полез вверх, а государь лежал на стене и, не испытывая победного чувства, с каким-то ободрением ожидал настигающего неистового человека. Он даже различил усмешку на змеино растекшихся губах, и жадно вздрагивающие ноздри с истекающей ко рту сукровицей, и взблески огня в напряженных, бесстрашных глазах. Царь хотел было подняться на ноги иль взглянуть по другую сторону стены в иной, неведомый, радостный мир всеместного блага, куда так стремился, но, лишенный сил, распластанный на камне, не мог он ни покинуть врага, ни усладить прощального взгляда обетованного землею. И тут супротивная рука настигла и ухватилась за рукав царской шелковой ферязи, рука худая, жилистая, с крупными катышами козанков, обметанных рыжеватой шерстью, с россыпью ржавых веснушек.
«Ах, царь, русский государь, ну воспротивься же ты алгимею, – вдруг кто-то невидимый снова насоветовал жалостно. – Хочешь боротися, так смотри врагу прямо в очии. Бесстудный ворог боится упорного взгляда».
Послушался молодой царь и с упорством взглянул в злые встречные глаза, и скрюченные пальцы недруга сразу потеряли всякую силу, и рука, больше смахивающая на растопыренную лапу ворона, отступила. В глазах неведомого алгимея увидел государь растерянность и страх И жалостно вздохнул государь и тут проснулся.
Италиянские напольные часы показывали четыре пополуночи. Откинув кисейный запон, царь прошлепал к окну. Влажная от пота ночная сорочка прилипла к лопаткам. Царь тоскливо вздохнул, отбрасывая наваждение, и словно бы невидимые токи пронизали дворцовые службы. Чуть свет встает государь, и вместе с ним подымается ежедень вся православная земля. Захлопали во дворце двери, всяк побежал по своей нужде, кто в заход, а кто в службы, заблистали от фонарей и свеч, от топящихся печей стекла и белужьи паюсы, слюдяные оконницы и бычьи пузыри, запахло первым дымом, стряпнёю, далеко пока до благотворного солнца, где-то в Япанском море залежалось оно в своих постелях, не спеша радовать приветного, ждущего русского сердца. Засуетилась по двору скорая на ногу челядь, не дожидаясь окрика дворецкого, заспанная, вовсе отупелая от раннего часа, пока-то апрельский сквозняк пробьется сквозь котыги и исподнее к замрелому телу, в самые шулнятки и пробудит их для жизни. Вздрогнет тут русский человек, переберет плечами, растерянно поведет очами окрест, торопливо перекрестится и проснется. А на главу Ивана Великого уже пал желтый просверк близкой зари; монашествующая братия отошла в церкви, к соборному петью, продевая ноги в кожаную шлею, пристраивались звонари, дожидаясь сигнального колокольца. И к Годуновскому колоколу-батюшке, всеобщему будильщику и раноставу, сошлись все трапезники, числом тридцать, окружили Филаретову башню двумя дружинами, разобрали постромки по обе стороны очепного колокола на Соборной и Ивановской площадях, а иные поднялись на ярус да оттянули великаний голосовой язык. Вот-вот разобьют темь, погонят прочь дьяволовы орды, всю сатанинскую нечисть благовестники, завторят им колокола красные, заподыгрывают малые зазвонные. Запоет Кремль пробуждение во все голоса и, прослушав их зазывистую силу и уряд, испивши такового хмельного напитка и распрямивши стан свой, на весь Белый город, да что там, на всю престольную, считай что на безбрежную Россию уронит бас свой Годуновский колокол. Вот тогда-то, почитай, и восстанет из ночи, как из смерти, вся Божья земля.
Эй-эй, кто там замешкал? Елико до чьей-то немотствующей души не добудится, не дозовется трубный глас «Реута», тому и не едать райского винограда. Скоро-скоро подзадорит вас медное петье, подобьет пятки, да так, что и в пляс пустишься: «Жи-вей жи-ви, жи-вей живи». – «Жи-ву, жи-ву, гля-жу, гля-жу». – «Го-ли-ка-ми при-ты-ка-ли, го-ли-ка-ми при-ты-ка-ли». – «Голи-ком прит-кнем».
И вот кремлевские воротники у башен, поднявши решетки, распечатали улицы, в соседней с опочивальней комнате взбодрилась сторожа – шестеро преданных спальников, насуровились на спальном крыльце оружные истопники, приглядывая в оба глаза за шустрым народишком, как бы не проскользнул меж челяди смутьян, ярыжка, гилевщик иль надоедный проситель, и каждодневную справу погрузил на плечи весь дворцовый служивый люд из приказов казенного и сытенного, кормового и хлебенного, житного и конюшенного – вся эта челядь, близкая и дальняя, стремянные конюхи и сокольники, певчие дьяки и священницы, сытники и винокуры, пивовары и бочкари, пекари и дроворубы, мовницы и прислужницы.
А пока тихо в Кремле, кишение огней безмолвно и призрачно. Царь молиться пошел.
«Не так ли и при конце света? Тьма провальная, а на дне ее жупел, смрад, тля и черти смолу кипящую мешают, – печально подумал государь, вглядываясь через веницейское цветное стеколко в оживший двор. Он вдруг почувствовал себя старым, отяжелевшим, усталым, большое его тело налилось свинцом. – Дал Бог свидеться с антихристом, а я дурак! Экий же дурак, право дело. Бог меня на поединок содвинул, а я обличье у вражины забыл».
Алексей Михайлович встряхнулся, опомнился: стоял он у окна в одной ночной срачице до пят. Верх думает: де, государь в Крестовой палате поклоны бьет, а он ныне душою упал. Оглянулся царь, насуровился, содвинул широкие шелковистые брови, но из-под приспущенных век сочится грусть. Готовно, дожидаясь повеления, вскочил с лавки гордоватый боярин Зюзин, ухвативши серебряный крыж сабли; земно поклонился государю всегда учтивый и богомольный постельничий Ртищев, смолоду шадроватый, с каким-то бабьим рыхловатым добрым лицом; но всех опередил ключник Богдан Хитров. Часто заглядывая царю в глаза, облачил его в шелковую расшитую сорочку с жемчугами по вороту да однорядку темного английского сукна, натянул на ступни бархатные червчатые башмаки, унизанные дорогими аксамитами. Был Богдан с бритой бородою, усы тонко выстрижены над губою, на шее под ферязью, скрученный в жгут платок из турской фаты. Когда убирал Богдашка государя, не остерегся, дохнул опрометчиво табачиной. Еще смутный от сна, разгневался государь, белое лицо пошло пятнами.
– Ты что, сродит, Бога не боишься? Табаку за губу кладешь или в ноздри пьешь? – спросил вкрадчиво, боясь промахнуться, но досада на постельничего уже помутила разум.
– Прости, державный свет. – Пал на колени Хитров, поцеловал государя в бархатный башмак. Царь, не сдержавшись, пнул спальника, угодил тому в лоб. Хитров завалился на спину, осоловело взмаргивая, а в лице ни тени страха, а в простодушных голубых глазах дрожит далекий смех.
– Ну годи, холоп. Я тебя нынче же прошу калеными щипцами, видит Господь мое терпение. Вот напущу на вас указу: кто табаку пьет за губу, тому губу долой, а коли нюхает, нос резать. Иди да скажи первому боярину, что я тебя в тюрьму на казнь сослал. Поймешь, каково без носу-то жить. Ужель не ведаешь, выродок, что табак – чертов ладан? При чертове ладане Бога-то разве вспомянешь? Смердящая воня за версту, а он после Евангелие целовать, отступник. От твоей вони мне нынче и наснилось, заплутай и вор! – Государь кричал, с каждым словом вбивая кулак в кожаный подлокотник кресла. Хитров оставался на коленях, покорно склонивши голову, на темени меж рыжеватых кудрей уже пробивалась лысинка с голубиное яйцо. Царь, остывая, и в эту плешинку щелканул наотмашь. Боярин Иван Зюзин злорадно прыснул, особенно презирая выскочку. Царь метнул на спальника досадливый взгляд, и боярин поперхнулся.
– Прочь с глаз, шелудивый пес. Тебя бы не руганью, дубиной потчевать. Даже волос бежит прочь с твоей глупой башки. Вот велю нос резать да пушу в народ для острастки.