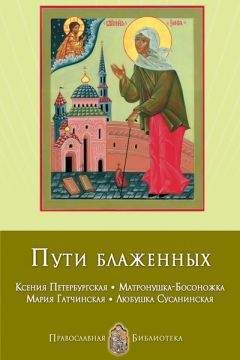— Эвон, Вавилон покатил своё семейство, — подшучивали соседи.
Они считали Рагозиных счастливой, даже нежной парой. И правда. Ксана запомнила только единственную грубость мужа — в то несчастное утро погрома.
Она стояла тогда с соседями перед воротами, держа икону, чтобы погромщики не приняли дом, в котором она жила, за еврейский. Чёрная орава, размахивая гвоздырями, свища и воя по-волчьи, катилась дорогами, а кое-кто из старательных охотников до крови забегал во дворы, вынюхивал следы попрятавшихся евреев или брошенные ими квартиры, и толпа кидалась на обнаруженную добычу и крушила подряд — человеческие кости, оконные рамы, кричащих детей, этажерки с посудой, оставляя позади себя ползущий смрад пожаров. Вдруг из-за угла выбежали несколько человек, развёртываясь цепочкой поперёк дороги. «Бей в упор», — негромко приказал чей-то голос. Ксана не заметила, как Пётр Петрович, стоявший все время рядом с ней у ворот, зашёл в дом. Она увидела его, когда он неожиданно появился крайним в цепи и быстро пошёл с людьми, ни разу не оглянувшись. Ксана сунула кому-то икону и бросилась за ним. Она схватила его, но он продолжал шагать, не вынимая рук из карманов, не оборачиваясь, маятниковой своей развалкой. Она вцепилась в его пиджак. Он шагал дальше. Она повисла на нём, крича: «Петя, Петенька! Родненький!» Он волочил её, как будто не замечал тяжести. Она взвизгнула: «Подумай о ребёночке нашем, Пётр!» Он оборотился, отодрал её пальцы от пиджака, с озлоблением толкнул её на тротуар и ушёл. Лёжа на земле, она расслышала щёлканье револьверной стрельбы и, уткнувшись лицом в ладони, заплакала.
Пётр Петрович не вернулся домой. Для Ксаны это было, конечно, неожиданностью, но она поняла её как неизбежность, подготовленную другими неожиданностями, — тем, что он ушёл от неё, не сказав ни слова, тем, что с необъяснимой жестокостью оттолкнул её, тем, что стрелял в людей из револьвера, тем, что никогда ей не обмолвился об этом револьвере. Целый год по праздникам она ходила в острог, к воротам, обитым железными листами, крашенными в бездушный зелёный цвет, как острожная крыша, и через квадратное оконце с решёткой боязливо просовывала стражнику узелки гостинцев для передачи подследственному Петру Рагозину. Локотки её делались все острее, пальцы — тоньше, но она удивлялась своей выносливости и говорила про себя, что стала двужильной. Нанявшись работать в чулочную мастерскую, она переехала на новую квартиру — крошечный надворный флигелёк мешковского дома, и когда узнала, что мужа ссылают, словно ещё больше ожесточилась в упорном стремлении пересилить судьбу.
Ранней свинцовой осенью после томительной болезни умер ребёнок. Ночью он умер, а поутру она пошла провожать мужа.
Этап уходил с товарной станции, и Пётр Петрович ещё раз увидел задымлённое депо и свой цех, в котором слесарничал до ареста. Высокий старик, рабочий из цеха, пришёл проститься и передал Петру Петровичу на дорогу табачку. К товарному поезду прицепили два тюремных вагона. Один из них заняли уголовными, уходившими в каторгу. Они явились в цепях, и, когда перебирались через пути, тяжело поднимая ноги над рельсами, звон железа стал слышнее всех звуков станции, но не мог заглушить их: по-прежнему вскрикивал маневровый паровоз-кукушка, стучали буфера, по-охотничьи пели рожки сцепщиков, устрашающе шипел в депо отработанный пар. И это был странный спор: жизнь прошла, прошла, — твердило железо цепей, жизнь идёт, идёт, — кричало и пело железо станции. И спор терзал, терзал Ксану, и она думала только об одном: устоять, удержаться на ногах, не рухнуть на землю, как в то несчастное утро погрома.
— Он уже, наверно, хорошо говорит? — спрашивал Пётр Петрович о сыне.
— Да, он хорошо говорит, — отвечала жена.
— А про меня спрашивает?
— Спрашивает.
— Озорной?
— Да, он озорной.
— А как спит? Спокойно?
— Спит очень спокойно.
— Не мешает тебе, как прежде?
— Нет, не мешает.
— Ты поцелуй его от меня.
— Поцелую.
— Зубы у него все вышли, да? Ты покрепче поцелуй-то его.
— Поцелую покрепче.
Так они расстались. Поезд с тюремными вагонами незаметно затерялся между других поездов, неподвижно стоявших или медленно передвигаемых. Товарищ Петра, старик, перед тем как распрощаться с Ксенией Афанасьевной и уйти к себе в цех, заглянул ей в сухие глаза и оторопел: показалось, что это она отсидела год в тюрьме, а не Пётр Рагозин. И вдруг Ксения Афанасьевна обратилась к нему с неожиданной просьбой: помочь ей похоронить ребёночка.
— Какого ребёночка?
— Сынка моего покойного.
— Как сынка? Разве ты не о нем сейчас с Петром толковала, поцеловать обещалась?
— Приду домой — поцелую. Он у меня дома на столе лежит.
Тут у старика язык присох к гортани.
Нашлись добрые души, которые помогли ей в горе. Но в горе-то её и узнали, и слава о ней не лежала — в нарушение поговорки, — а потихоньку катилась из уст в уста и дошла, наверно, до умных людей.
Уж на третью зиму, как Ксения Афанасьевна жила бобылкой, к ней заявился тот самый высокий старик, который провожал Петра Петровича и потом помог хоронить ребёнка. Начав с дальнего разговора, он привёл к тому, что есть у него дело, требующее верного человека.
— В чем же надобна верность?
— А чтобы молчать.
— Молчать я умею.
— Видал. Знаю. Потому и пришёл.
На другой день Ксении Афанасьевне привезли на салазках две кадушки, замотанные старыми одеялами, и спустили их в погреб, установив на берёзовые поленца, как полагается для зимних солений. Так эти кадушки и стояли завёрнутыми в одеяла, и Ксения Афанасьевна вспоминала о них, только спускаясь в погреб, за квашеной капустой. Ход на погреб был закрытый, прямо из сеней.
Ближе к весне, как-то в сумерки, к ней подошёл на улице ученик технического училища и спросил, когда к ней удобнее заглянуть, — ему поручили передать пакетик. Что за пакетик, он будто бы толком не знал, — просили занести, потому что он недалеко живёт. Ксения Афанасьевна успела только заметить, что у техника пресекался голос и он все откашливался, точно подбодряясь. Поздно вечером он принёс что-то вроде почтовой посылки. Расстегнувшись и сняв фуражку, он туго протирал мокрый лоб скомканным платочком и молчал.
— Пакетик-то, видно, не лёгок, что вы так умаялись? — улыбнулась Ксения Афанасьевна.
— Если вам тяжело будет убрать, я помогу, — ответил гость.
Ксения Афанасьевна попробовала поднять пакет и насилу оторвала его с пола.
— Что же это? Ведь больше, наверно, пуда?
— Не знаю, — ответил гость. — Просили только сказать, что вам известно, куда надо пакет поместить.
Он начал застёгивать шинель, сосредоточенный, каждой чёрточкой лица нелюдимо отвергающий всякие расспросы. Ксения Афанасьевна опять улыбнулась.
— Давно этим занимаетесь?
— Чем?
— Гимнастикой, — сказала она, кивнув на пакет.
— Гимнастику я люблю с детства.
— С детства разносите таинственные посылки?
— Что же тут таинственного? Мне поручили, я вас знаю, принёс, передал — и все.
— Ну а если я не приму? Я-то ведь не знаю, от кого это.
Вместо ответа он протянул руку, прощаясь и этим как будто отклоняя шутки там, где все было слишком серьёзно. В дверях он приостановился, подумал, спросил вполголоса:
— Правда, что ваш муж к будущей зиме вернётся?
— Должен вернуться. Осенью — срок.
На этом кончилось первое знакомство Ксении Афанасьевны с Кириллом. Он доставил ей ещё такой же пакет, и потом она не видала его несколько месяцев. В эти посещения он по-прежнему уклонялся от доверчивого разговора, и она подумала, что он, может быть, действительно не посвящён, что за кладь ей передаёт. Но она принимала эту кладь спокойно, потому что ей было сказано, чтобы она принимала и берегла её вместе с кадушками в погребе.
Когда Пётр Петрович возвратился, начался тот особенный период взаимного узнавания, какой обычен для близких людей, насильственно разлучённых и долго живших вдалеке друг от друга. Свойства характеров, житейские навыки и даже телесные черты и приметы, когда-то казавшиеся важными, за время разлуки превратились в незначительные, а те, которые были маловажны, заняли существенное место. К угадыванию перемен, к тому, что давалось глазу, осязанию, чутью, присоединились целые повести о пережитом, в самых неожиданных, мелких и — на чужой взгляд — ненужных подробностях. Постепенно становилось понятно, почему уже нельзя было бы принять Ксению Афанасьевну за дочь Рагозина, почему она утратила хрупкость, а сделалась гибкой, словно увёртливой, и почему как будто преобразилась вся стать Петра Петровича: наклон его туловища стал меньше, поступь отвердела, почти утратив раскачку.
Они поняли, что любовь их не прошла, а точно обогатилась временем и что в чувстве, с каким они ожидали друг друга, излишней была только боязнь, что оно померкнет. Они признались и страшно обрадовались, что в своём горе матери и отца видели не только потерянного сына, но ещё и того ребёночка, которого обоим хотелось иметь и грусть о котором теперь вдруг переплелась со страстью, дождавшейся полной воли. К этой радости чувства прибавилось то, что оба они приобрели особое понимание происшедшего с ними как чего-то крайне ценного. Ксения Афанасьевна ни разу не сказала мужу, что если бы он не принадлежал к боевой дружине или не вышел бы с дружиной на улицу и не стрелял бы, то не было бы ни острога, ни ссылки, а возможно, не было бы и смерти сына, и они жили бы спокойно. А Пётр Петрович не попрекнул ни разу жену тем, что она так долго утаивала от него смерть ребёнка. Её нисколько не устрашило, что мужу предстояло жить под надзором полиции, и она сочла за должное, что он вернулся из ссылки членом рабочей партии. Когда он сказал ей это, она ответила: «Ну и правильно».