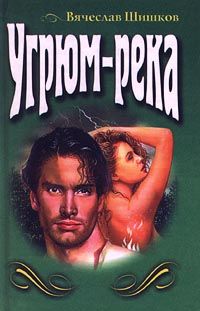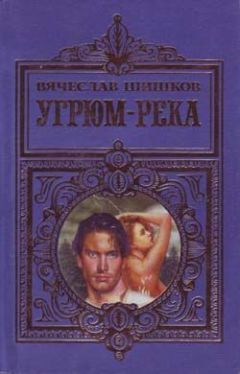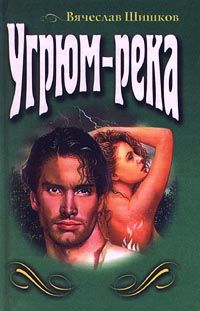Лицо Прохора вновь стало юным. Он лежал, закрыв глаза, на губах улыбка. А думы безудержно уносили его все дальше, дальше.
Тишина. Всплескивают весла. «Должно быть, шитик». Нет, это камыши шумят. Нет, соболь крадется к задремавшей птице.
— Бойе… Проснись, бойе…
Прохор открыл глаза. Склонившись над ним, сидела девушка. Маленькие яркие губы ее улыбались, а прекрасные глаза были полны слез.
— Значит, хочешь уйти, покинуть?
— Да, хочу… — сказал Прохор, и ему стало жаль девушку. — А может быть, останусь. Поплывем с нами.
— Нет, нельзя… Я в тайге лежу. Меня караулят.
— Что значит — лежу? Кто тебя караулит?
— Шайтаны, — сказала она и засмеялась печальным смехом. — Еще караулит отец. — Она совсем, совсем хорошо говорила по-русски, и голос ее был нежный, воркующий.
Прохору лень подыматься. Он взял ее маленькую руку и погладил.
— Как тебя звать?
— Синильга. Когда я родилась, отец вышел из чума и увидал снег. Так и назвали Синильга, значит — снег… Такая у тунгусов вера…
Звезд на небе было много. Но самоцветных бусинок на костюме девушки еще больше. Прохор ласково провел рукой по нагруднику-халми. Грудь девушки всколыхнулась. Девушка откинула бисерный халми и прижала руку юноши к зыбкой своей груди:
— Слушай, как бьется птичка: тук-тук! — Она совсем близко заглянула в его глаза. Нашла его губы, поцеловала. — Бойе, милый мой, — в голосе ее укорчивая тоска, молящий стоп.
Прохору стало холодно, словно метнуло на него ветром из мрачного ущелья.
— Вот, лягу возле тебя… Обними… Крепче, бойе, крепче!.. Согрей меня… Сердце мое без тебя остынет, кровь остановится, глаза превратятся в лед. Не ветер сорвет с моих щек густоцвет шиповника, не ночь погасит огонь глаз моих. Ты, бойе, ты! Неужели не жаль меня?
Прохор в этот миг заметил сидевшую на обрывистом камне, над самой водой, молодую вдову-тунгуску. Грудь ее дрожала от глухих рыданий, и черные распущенные волосы свисали на глаза. Прохору вдруг захотелось причинить девушке страдание, и он сухо сказал:
— Нет, Синильга, не жаль тебя. Вот ту жаль… Синильга молча встала и, подбежав, столкнула вдову в реку, а сама возвратилась холодная.
— Неужели густые сливки хуже прокисшего молока? Эх, ты!.. — сказала Синильга и легла возле него на золотом песке. — Не любишь, значит?
— Я другую люблю, — прошептал Прохор, не в силах оторваться от влекущего к себе лица Синильги. — Ты прекрасна, но та лучше тебя во сто раз.
— Ах, бойе! — вздохнула девушка и вся померкла. — Оставайся здесь, оставайся! Я научу тебя многому. Любишь ли ты сказки страшные-страшные? Я — сказка. Любишь ли ты песни грустные-грустные? Я — песня, а мое сердце — волшебный бубен. Встану, ударю в бубен, поведу тебя над лесом, по вольному бездорожному воздуху, а лес в куржаке, в снегу, а сугробы глубокие, а мороз лютый, и возле месяца круг. Ха-ха-ха!.. Ой, горько мне, душно!
И она заплакала и стала срывать с себя одежду, но не могла этого сделать: словно холодное железо пристыла одежда к ее телу. Плакала Синильга долго, ломала руки в последней тоске, и плач ее сливался с другим плачем: взобравшись на скатный белый камень, видимый среди ночи при свете звезд, навзрыд рыдала с того берега вдова. Прохору все еще лень подняться; он только слушал, и ничто не удивляло его.
— Не верь вдове! Она притворщица; плачет о том, чего не было, ищет, чего не теряла.
Синильга все ближе придвигалась к нему, — он отодвигался:
— Ты холодна, как снег, Синильга.
— Я снег и есть.
— Синильга! Если б ты была она, я бы любил тебя.
— Бойе! Я и есть — она, она и есть — я… Разве не узнал?
— Я никогда не видал ее. Я только слышал про нее сказку… Та — мертвая… Но я возвращу ей жизнь.
— А я не мертвая? Я, по-твоему, живая? Бойе! Вот, поцелуй меня жарко, жарко. Брось меня в костер твоего сердца, утопи меня в горячей своей крови, тогда я оживу. Ох, тяжко мне в гробу лежать одной и хо-о-лодно…
Прохору стало жутко. Он придвинулся вплотную к костру и никак не мог оторваться взором от Синильги: столь прекрасна она была.
— Значит, ты шаманка? Та самая, что…
— Та самая.
Словно льдина прокатилась по спине его. Задрожав, он крикнул:
— Врешь!!!
— Прохор Громов! — вещим резким голосом произнесла Синильга.
— Откуда ты знаешь? Ты кто? — весь холодея, юноша вскочил.
Та же ночь была тихая, звездная. Прохор перекрестился, вздохнул. Он хотел тотчас же записать этот странный сон, но отложил до завтра: голова была тяжелая, слипались утомленные глаза. Подживил костер и крепко, по-мертвому, заснул.
— Вставай, что же ты… Эй, Прошка!
Шитик круто взял к фарватеру. Солнце ударило Прохору в лицо. Он поднялся.
— Что за чертовщина такая! — От разбавленного водой спирта, что угощал его старик, у Прохора в голове и во рту до сих пор скверно.
На берегу стояла группа тунгусов — мужчин и женщин.
Они вышли взглянуть на шитик и пожелать счастливого пути.
Прохор подошел к старику, спросил его:
— А где Синильга?
— Какой Синильга? Нет такой… Может, мой девка, дочка? Он в чуме сидит, хворает.
Прохор дико смотрел на него и тер недоуменно лоб.
«Разве спросить вдову, может быть это она приходила ко мне на ночное свиданье? Может, ее Синильгой звать?»
Но Ибрагим еще раз крикнул с шитика:
— Прошка, плывем!!!
В самом конце августа путники с большими лишениями, через упорную борьбу с рекой, наконец прибыли в Ербохомохлю — последний населенный пункт.
— Жалко расставаться с вами… Ну и жалко! — искренним голосом сказал Фарков. — Дюже привык я к вам… Ей-богу!
Как ни упрашивали его Прохор с Ибрагимом, чтоб не оставлял их, Фарков не соглашался:
— У меня там сын, хозяйство. Как спокину? Ведь ежели плыть, дай бог к пасхе домой-то вертануться… Много тысяч верст надо обратно-то околесить. Баба подумает, что утонул. Нельзя, братцы.
Фарков попрощался сначала с Ибрагимом, потом подошел к Прохору и обнял его, как сына:
— Ну, Прохор Петрович, прощай, дружок!.. Много тобой довольны… Значит, через годик будем поджидать тебя. Так-то… — Он отвел Прохора в сторону. — Иди-ка, паря, на пару слов, — и, усадив его на завалинку возле избы, заговорил тихо, трогательно:
— Вишь, что, Прошенька. Ты хорошенько обмозгуй дело-то, плыть ли. Поздно, смотри. Вдруг замерзнете, а? Ведь дальше ни души не встретишь.
— Я решил плыть.
— Смотри. Надо мужиков расспросить здешних, стариков. Может, бывал который. Ну, ладно, авось бог пронесет… А вот еще чего… — он положил ему на плечо руку и совсем тихо зашептал:
— Тунгуска-т, шаманка-т, мертвая-то… Ведь ее впрямь Синильгой звали. Вспомнил, ей-богу право… Синильга, как есть.
Прохор вопросительно, с внутренней дрожью взглянул на него:
— Ну, и что же?
— А то, что не шибко-то накликай ее. Избави господи: прицепится — с ума сойдешь. Такие-то, сказывают, по ночам кровь сосут. Ежели будет манить тебя, ты больше молитвой. Бывало случаев разных много…
— Ерунда какая! — овладев собой, презрительно ухмыльнулся Прохор.
Фарков купил лошаденку и верхом уехал в тот же день.
Прохор с Ибрагимом осиротели.
Ербохомохля — маленькое захудалое село. Есть деревянная церковь, но колокола ее давным-давно безмолвствуют: пятый год нету постоянного священника, лишь раз в год приедет благочинный, отпоет на погосте всех огулом, кого зарыли в землю, окрестит ребят, потом пойдут своим чередом веселые свадьбы: благочинный как следует дорвется до дарового угощенья и, весь опухший от вина, возвращается домой. А в народе — горький смех, глумленье, истинные слезы: верующий стал невером, маловерный на все рукой махнул: «обман, мошенство».
Жители в селе Ербохомохле — старожилы. Предки их перекочевали сюда из Руси еще при царе Алексее Тишайшем, частью беглые от крепостного права, от солдатчины или осевшие тут казаки, что отвоевали когда-то земли сибирские. Теперь добрая половина жителей занималась звероловством, часть — допотопным способом ковыряла землю, что-то сеяли и были в полной кабале у суровой обманчивой природы.
Остальная же часть, не малая, — отъявленные жулики. Они обманывали соседей, друг друга, отца, брата и кого придется, по преимуществу же беспомощных, простодушных тунгусов, в большом числе ежегодно собиравшихся сюда с богатейшими дарами тайги на ярмарку в день зимнего Николы. Приезжали на эту ярмарку и тароватые купцы из ближнего городишка, торчавшего где-то за полторы тысячи никем не меренных верст. Приезжал и сам господин становой пристав — око царево — и урядник, а то и пастырь: на случай духовных треб.
В сущности это не ярмарка, а денной грабеж, разбой, разврат и пьянство. Почти никто не уходил отсюда цел душой и телом. Были изувеченные в драке, вновь испеченные покойники или приявшие лютую смерть от лютого мороза: оберет торгаш до нитки, даст в дорогу огненной воды — вина, обтрескается тунгус, замерзнет, — все следы скрыты. Были потерявшие от горя рассудок и на всю жизнь ставшие калеками, были награжденные дурной болезнью.