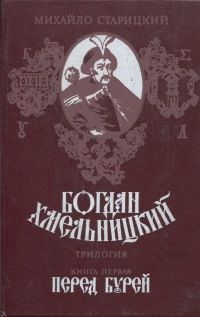— Проклятье! — вскрикнул Чарнота, бросаясь к окну. — Что ты наделала?
Он быстро взглянул в окно, и снова крик ужаса вырвался у него из груди: фонарь, висевший на вершине башни, судорожно заколебался и полетел с высоты вниз, и в то же время донесся до него поднявшийся у брамы крик и звук сабель.
— Они погибнут! — вырвался у него вопль из груди.
— Ага, изменник! — вскрикнула бешено Виктория, хватая его за руку. — Теперь ты не уйдешь от меня!
— Мало! — отступил от нее гордо Чарнота и произнес громко и смело: — Я Чарнота, разбойник, товарищ Кривоноса. Ну, спеши же теперь к своему князю и скажи ему, что мы прибыли сюда для того, чтобы выжечь весь замок и истребить всех вас до единого.
— Ай, матка свента! — воскликнула с невыразимым ужасом Виктория, как подстреленная птица, зашаталась и, хватаясь за стену, опустилась на пол.
Окна башни начали мигать огнями. Послышалась тревога.
— Проклятье! — шептал Чарнота, задыхаясь и потрясая с усилием решетчатое окно. — Все погибло! Смерть, ужас, бесчестье! А!.. — тряс он с остервенением железную раму. Лицо его покрылось багровым румянцем, на лбу надулись жилы. — Проклятье! Пекло! — кричал он бешено, но рама не поддавалась. Крик и шум в замчище принимали все более угрожающие размеры. Вот по двору замелькали фонарики.
— Куда ты? Я не пущу тебя! — вскрикнула Виктория, приходя в себя и заметив, что Чарнота стоит на окне. — На бога! Там верная смерть, я спасу, я спрячу тебя! — поползла она к нему.
— Не подходи, змея! — оглянулся на нее исступленный Чарнота, потрясая с нечеловеческим усилием раму. — Позор! Предательство!
— На бога, на панну! — захлебывалась с рыданьем Виктория, ломая руки и ползая у ног Чарноты. — Я спасу тебя, я спрячу! Князь — кат, пепельные муки!
— Пусти! Я товарищей не брошу! — вырвался от нее Чарнота, но цепкие руки судорожно охватывали его, мешая свободе движений.
— Ай! Не удержу тебя! Ты уйдешь, ах, смотри, то князь Иеремия! — вскрикнула обезумевшим голосом Виктория, увидевши князя во главе своих латников, быстро мчавшегося к воротам. — Смерть, смерть, смерть! — закричала она, цепляясь в беспамятстве за одежду Чарноты.
— Прочь, или я убью тебя! — оттолкнул ее Чарнота с такою силой, что она плашмя упала на пол.
— Езус-Мария! Ратуйте! — взвизгнула Виктория с последнею отчаянною надеждой, протягивая руки к Чарноте, но он уже был на окне. Рама наконец распахнулась и сорвалась со звоном. Освещенный огненным заревом, казак готов был ринуться вниз, как вдруг чьи-то сильные, тяжелые руки схватили его сзади за плечи, и он, потеряв равновесие, грохнулся замертво со всей высоты головою об пол.
31
Две недели прошло с тех пор, как Богдан вернулся домой и Марылька водворилась в семье. За это время уже к ней попривыкли немного, а сначала приезд польской панны поразил было всех и послужил на целую неделю материалом для всевозможных хуторских толков. Хотя Богдан и объяснил с первых слов, что великий канцлер и найяснейший круль принимают в этой сиротке большое участие, даже просили его, Богдана, взять ее под свое покровительство, как спасенную им же от смерти, но всем казалось странным, во-первых, то, что дочь польского можновладца поручается в опеку казаку, а во-вторых, что об этом спасении до сих пор никому не было известно.
Жена Богдана встретила Марыльку приветливою улыбкой, довольная тем, что ее муж почтен доверием и лаской наияснейших особ, а главное, что он вернулся, что царица небесная сжалилась над ее мольбами, послала ей в последние минуты скорбной жизни отраду увидеть дорогого Богдана, сказать ему прощальное слово и сомкнуть при нем навеки глаза.
Положение больной было уже смертельно. Удушье не давало ей ни сна, ни минутного даже покоя; высохшее до ужасающей худобы желтое лицо ее почти утопало в высоко взбитых подушках, руки неподвижно лежали, как тонкие плети, на ковдре; под складками ее обрисовывался вспухнувший непомерно живот и протянутые бревнами ноги, только теплящийся огонь блуждающих очей, глубоко запавших в орбиты, да судорожно подымавшаяся грудь обнаруживали в этом немощном теле последнюю борьбу угасающей жизни.
Марылька подошла благоговейно к страдалице, опустилась на колени и поцеловала ей почтительно руку; больная со страшным усилием положила обе руки на голову панночки и прошептала слабо:
— Спасибо, панно... они тебя полюбят... У него, — повела она на Богдана глазами, — золотое сердце.
— А я-то, — закрыла руками свои очи Марылька, — уже всем сердцем люблю вас и всех... всех... Ведь я сирота, никого нет у меня... и ласки я не видала. Да наградит вас бог за нее...
Голос ее порвался, и она, вздрагивая и всхлипывая, отошла к окну.
Все были тронуты. Неласково и недоброжелательно устремленные на Марыльку взоры засветились более теперь теплым чувством. Ее вкрадчивый, чарующий голос и прорвавшееся горе подкупили всех сразу, а Марылька, расспросивши потом про болезнь своей новой мамы, заявила, что она сможет, при помощи божией, облегчить ей страдания, что такою же болезнью была больна и теща Оссолинского, при которой она состояла неотлучной сиделкой, и что она припрятала многие травы и лики, привезенные чужеземными знахарями для ее княжьей мосци.
Баба воспротивилась было вмешательству в сферу ее деятельности, протестуя, что всякое чужеземное зелье, собранное без надлежащей молитвы, не чисто; но утопающий хватается ведь за соломинку, да и Богдан притопнул на бабу.
Марылька сварила траву и дала выпить больной раза три этой настойки, подсунувши маму, при помощи Богдана, повыше; и полусидячее, более удобное положение, и новое снадобье облегчили, видимо, страдания умирающей: она вскоре затихла и заснула спокойно.
Баба, глядя на это, только качала головой да бросала исподлобья сердитые взгляды на эту новую ляшскую знахарку, а Марылька торжествовала, да и Богдан вместе с ней, — он был умилен ее горячею заботливостью и смотрел на нее, как на ниспосланного ему ангела-утешителя; про больную и говорить нечего: она сразу привязалась к Марыльке, как к спасительнице, не находя слов, как и благодарить ее...
Проходили дни. Больная привыкала и привязывалась все больше к Марыльке; последняя высказывала с каждым днем и уменье ухаживать за больной, и свою беззаветную преданность, и свой откровенный, простой, веселый характер. В минуты облегчения страданий она развлекала свою маму интересными рассказами из своих приключений и умела иногда разными прибаутками вызвать даже улыбку на безжизненно-бледном лице.
Оленка и Катря, смотревшие сначала исподлобья на новую, навязанную им сестру, начинали мало-помалу любить ее и сходились в светлицу матери слушать рассказы панночки. У одной только Оксаны крепко росло недружелюбное чувство к Марыльке, и она все избегала ее да отводила с бабой накипавшую злость: Оксана видела, что так или иначе, а Марылька оттерла незаметно от больной пани и Ганну, и бабу. Хотя Ганна не показывала и вида, что чем-либо огорчена, но Оксана замечала, что он$ стала молчаливой и печальной, а баба, так та втихомолку и плакала, да жаловалась Оксане, — до чего дожила: целый век-де упадала за паней, как за родною дытыной, а вот прибилась какая-то ляховка-причепа да и завладела и сердцем ее, и насиженным в этой хате хозяйством.
И действительно, Марылька становилась полною госпожой в этой светлице, пропитанной запахом ладана, васильков да оливы, горевшей в неугасаемой лампаде перед ликом матери всех скорбящих. Все здесь делалось только ею или по ее приказанию; никто уже не мог угодить больной: и подушки не так перебьют, и не подвернут без боли ноги, и не так подадут кухоль, только Марылька умела во всем угодить, и умирающая не могла даже дохнуть без Марыльки.
С приездом этой панночки она не только чувствовала себя физически лучше, но и душой была бесконечно счастливее. Богдан теперь почти не отходил от жены и был безгранично к ней нежен.
Ему только тяжело было носить личину печали и удерживать рвущуюся из груди радость; но и тут облегчение страданий больной давало приличный мотив. Особенный такт Марыльки и уменье ее себя поставить и очаровать всех простотой и сердечностью своего нрава вывели Богдана из ложного положения и возвратили ему прежнюю уверенность и спокойствие.
В эти две недели Богдан почти никуда не выезжал и не давал знать никому о своем приезде; ему хотелось хотя на время укрыться в своем хуторе и пожить личными радостями; он дорожил этим кратковременным покоем, предчувствуя, что за пределами хутора опять поднимутся бури и человеческие стенания.
Ганна неоднократно сообщала Богдану про наплыв новых поселенцев, про то, что они поселены временно в куренях, но что нужно им приискать новые места для поселков; но он долго отказывался выехать на осмотр, ссылаясь на больную жену.
Ганна была поражена таким необычайным горем, охватившим Богдана до оцепенения, до полного даже равнодушия к наступающим со всех сторон бедам. Этот взрыв чувства к отходящей в вечность страдалице глубоко бы тронул отзывчивое сердце Ганны, если бы ее не смущала игравшая в глазах дядька радость.