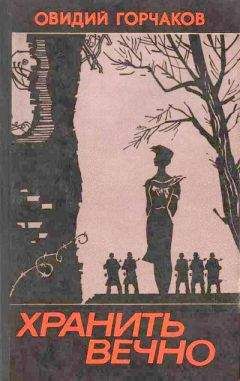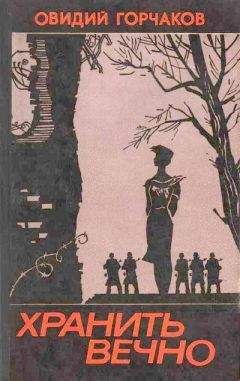— Стой! — кричу я бегущему впереди партизану. — Передай, чтоб остановились!
Рана пошаливает. Кружится, становится невесомой голова, поташнивает, то темнеет, то вспыхивает день мириадами светлых мотыльков. Наган в руке тяжелее ручника. Люди останавливаются, скучиваются в толпу. Там, сзади, стреляют, но настоящий бой еще не начался.
— Ну, кто тут с оружием? Кто нас охраняет? — спрашиваю партизан. — Давайте разберемся. Здоровые, ко мне! Безоружные на месте. А радист где? Токарев? Радист где?
— Студеникин там застрял. А рация с электропитанием у меня.
— Барашков! И ты с нами? Кто тут еще из десантников имеется?
— Не знаю. Все в один момент получилось. Вот Колька Сазонов и Колька Шорин.
— Так. И Терентьев тут? Ага! Пулеметчик! Сколько у нас пулеметов? Три «дегтяря», один «Универсал». Здорово! — Как фамилия?
— Завалишии Павел.
— Герой обороны Трилесина? Иди-ка, Павел, на ту поляну, по нашим следам.
Посторожи, пока мы тут разберемся
— Второй номер мой там остался.
— Ничего. Вот Терентьев с тобой пойдет. Ну-ка, Баженов, сосчитай людей! Вы, товарищи, будете неотлучно следовать за Токаревым. У него — рация. Отвечаете за нее головой. Автомата ни одного?.. Сейчас пойдем. Люда!.. А муж твой, Юрий Никитич, где? Там остался? А Алеся где? Ну, сколько?..
— Раненых и женщин там много осталось,— докладывает Баженов,— не все тут. У нас человек десять раненых всего и девятнадцать женщин из разных отрядов. Здоровых ровно тридцать человек. Всего около шестидесяти человек.
— Нда! Баженов, возьми десять здоровых бойцов, два пулемета и прикрывай наш отход. Ты, Барашков, бери пять человек в головной дозор. Остальные за мной. Держи дистанцию в три метра... Марш!
Я стою, и мимо меня проходят сперва три Николая в головном дозоре, потом, один за другим, строго соблюдая трехметровую дистанцию, идут партизаны, санитарки, раненые...
Увидев Алесю, я вздрагиваю, и в груди тает комок тревоги. Она проходит мимо так близко, что я вижу в глазах ее золотые искорки. За ней идет Токарев с радиостанцией. И вдруг в каком-то озарении пришло оно — самое смелое и важное решение моей жизни...
«Целый отряд»,— сказал Баженов. Правильно сказал, правильно сказал, черт возьми!
Ослепительно яркой, все озаряющей ракетой загорается вдруг в мозгу дерзкая мысль:
«Уйти, уйти с радиостанцией!» В этом — весь смысл разговора с Самариным. Нас шестьдесят человек! Когда мы начинали, нас было всего одиннадцать человек! Одним ударом разрубить все узлы! Богомаз! Выход найден! Нет, ты не умер, наш товарищ, раз ты и сейчас управляешь судьбами!.. Выход найден, Богомаз!
Самсонов хочет бежать через линию фронта, хочет всех нас сделать дезертирами, хочет сделать то, что не смогли сделать каратели — разгромить бригаду. Это ему не удастся! Он хочет оклеветать Аксеныча, Полевого, Мордашкина, Дзюбу и всех покинувших его партизан, так как предал тебя, Богомаз, тебя, Надя, тебя, Юрий Смирнов! Это не удастся ему. И сам он крепко призадумается, прежде чем пойти без радиостанции на Большую землю!.. Вся сила Самсонова — в рации. Как Кащея в сказке. А радиостанция в наших руках! Сегодня же Большая земля узнает все о Самсонове.
Позади все еще гремит стрельба. В чистом небе неистовствует хищный ветер, мечутся и шумят, плещут золотыми брызгами солнца уходящие в бледно-синюю высь гибкие непокорные верхи берез. Я бегу очертя голову вслед за отрядом, обгоняю его. С гордостью и любовью заглядываю в лица партизан — партизан нового, безымянного отряда.
Ты, Самсонов, потерял все! Но твой крах — это не наш крах. Группы хачинских партизан обрастут людьми, станут отрядами, создадут бригады, еще более сильные, еще более славные. И люди наши знают теперь, кому доверять, с кем идти в бой, и до победы не выпустят оружие из своих рук.
Другие мысли тянутся за первой, как за яркой ракетой, едва заметным дымным хвостом. Там остались мои друзья, там Самарин, Щелкунов... Чертовски болит рана. Надо хорошенько взвесить все, обдумать... Кругом — чужой, незнакомый лес. Велик ли он или мал? Что за деревни вокруг? Есть ли в них немцы? Я даже не знаю, куда ведет вот эта стежка... Но первая мысль, загоревшаяся в мозгу ослепительной, как солнце, ракетой,— уйти с радиостанцией от Самсонова, связаться с Большой землей, призвать Москву на помощь — затмевает, сжигает все остальное. Прочь страхи, прочь колебания и сомнения!
— Товарищ командир! Не пора ли остановиться, обождать?
— Не останавливаться! Шире шаг!
— В самом деле, может, отдохнуть? Нe стреляют уже...
— Вперед! Вперед!
— Впереди — поле...
— Все равно, вперед!
10Вечером нам повстречался в лесу Баламут. Он рассказал, что бой под Старинкой был коротким: с помощью подоспевшего из-за Сожа отряда Дзюбы наши товарищи отшвырнули передовой эсэсовский батальон и оторвались от основных сил карателей. Но тут партизаны узнали о нашем уходе с радиостанцией, и тогда группами и целыми отрядами стали уходить они от Самсонова... Отряды Дзюбы и Фролова откололись от Самсонова и двинулись на восток в Брянские леса. С Самсоновым остались — Ефимов, Кухарченко, Гущин, Богданов. Верный своему слову, остался с ним и Самарин.
«Самсоновщиной мы переболели,— сказал он Баламуту. — Второй раз корью не болеют!» Самсонов, безуспешно порыскав по лесам в поисках пропавшей радиостанции, тоже поспешил на восток, поклявшись перехватить нас по пути к фронту, расстрелять
«дезертиров» и вернуть себе рацию.
Необыкновенную силу чувствовал я в себе в тот вечер. И походная ночь не утомила меня. А на рассвете, когда отряд остановился в поле и мы приняли решение пересидеть дотемна в небольшом кустарнике, я набросал текст радиограммы «Центру» и, подойдя к Токареву, попросил его отойти в сторонку. Я выбрал очень удачное время для решительного разговора с ним.
Он устал, был голоден и трусил, попав в кустарник, вокруг которого простиралось во все стороны открытое поле, понимая ,что если немцы обнаружат нас, едва ли кто из отряда уйдет от гибели. Я достал из кармана лист бумаги, развернул ее, разгладил на колене и протянул ему. — Читай!
— Микроскопический почерк у тебя,— пробормотал Токарев. — Через минуту он поднял на меня испуганные глаза. Бас его сразу спал на две октавы. Неплохо изложено. Подробно, но сжато. О многом я догадывался.
— Читай дальше.
Он дочитал до конца, снял пилотку и вытер ею вспотевший лоб.
— И что? — спросил он тихо.
— Это — радиограмма. Передашь ее «Центру». Тебе известны часы передачи и приема
— расписание сеансов. Ты знаешь позывные, длину радиоволн.
— Не передам! «SOS»! «Спасите наши души»... Да нам за это...
Токарев выпрямился, точно шомпол проглотил, сжал челюсти, низко надвинул брови.
Пойми! Москва должна услышать наш сигнал бедствия. Наш капитан сошел с ума. Неужели мы должны ждать, пока он разобьет корабль о рифы, погубит нас и наше дело! Если капитан сошел с ума, его связывают, лишают командования. Это мы и сделали, уйдя от него с рацией.
— Романтический бред. Не передам. Я не знаю шифра...
— Передашь тогда открытым текстом,— тихо, но с несокрушимой уверенностью сказал ему я. — Но ты должен знать шифр. Ты недаром просидел больше месяца в шалаше Студеникина. Шифровальные рулоны у тебя.
— Не стану я это передавать! Сазонов нам с тобой голову оторвет!
— Передашь!
— Да не примут у меня, а если примут — не поверят. На радиоузле знают «почерк»
Студеникина. Отстучат мне «99» — пошел, мол, к черту — и баста!
В огромных лапах Токарева винтовка казалась игрушечной. Токарев мог схватить и переломить меня о колено, как сухую щепку. Но в эту минуту я был сильнее его. И он это понял.
— Ты соображаешь, что ты делаешь?! Все пойдет насмарку — лопнут все наши ордена. Тебя он дважды представил к орденам, а ты и медали не получишь, если погубишь командира!
Я шагнул еще ближе к нему, вплотную, так чтобы он видел мои глаза, каждую черточку моего лица. Я сказал только одно слово, но в это слово, в этот взгляд, приковавший к себе взгляд Токарева, я вложил всю свою ненависть к Самсонову, к самсоновщине, и к тому, что было слабым и гнилым в самом Токареве, всю свою волю, всю силу мозга, сердца, горячего убеждения и грозного приказа. Всего себя втиснул я в это слово:
— Передашь!
— Ладно,— пробормотал он. Глаза его бегали...
— Передашь сейчас же!
Я не отходил от него ни на шаг, смотрел через его плечо, когда он зашифровывал радиограмму, помогал ему распаковать радиостанцию, повесить антенну, проверить расписание передач, анод, накал, настройку. Я видел, как он включил «на передачу», неотрывно следил за его пальцами на ключе, когда он стал выстукивать трехбуквенные позывные Студеникина, следил за миганием желтой индикаторной лампочки.
Я почти видел, как от волшебного этого ключа помчались вдруг быстрые, как лучи солнца, концентрические волны энергии — той энергии, что накапливалась во мне три самых долгих в моей жизни месяца, что превратилась теперь в энергию радиоволн. Вот отскочили эти незримые волны там за облаками от ионосферы и мгновенно вернулись на землю, разом зазвучали непонятно и чуждо в наушниках сотен и тысяч радистов-коротковолновиков — на самолетах, танках, крейсерах, в ставках и штабах, в берлинском дивизионе радиоперехвата — и понятно, знакомо, на московском радиоузле, в наушниках дежурного радиста, ловившего на условной волне наши позывные.