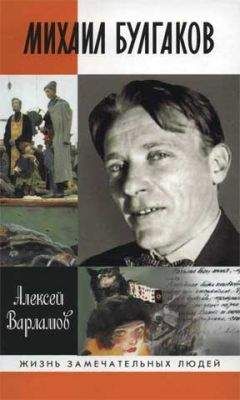Замысел был действительно очень давний, относящийся к концу двадцатых годов, но нельзя сказать, чтобы он целиком захватил и не отпускал своего создателя. Булгаков в этом смысле вообще умел легко переключаться с одной вещи на другую, бросать, отвлекаться, потом возвращаться, переделывать, переиначивать, создавать различные варианты и редакции – вся история романа «Мастер и Маргарита» тому свидетельство. Весной 1933 года вскоре после неудачи с жэзээловским «Мольером» драматург заключил договор с Ленинградским мюзик-холлом на создание эксцентрической пьесы, однако тем же летом договор был расторгнут, ибо появилась надежда, что будет поставлен «Бег», и замысел новой пьесы отошел на второй план, уступив место переделкам старой и, очевидно, более для автора дорогой.
«…„Бег“, если судьбе будет угодно, может быть, пойдет к весне 1934 года <…> В „Беге“ мне было предложено сделать изменения. Так как изменения эти вполне совпадают с первым моим черновым вариантом и ни на йоту не нарушают писательской совести, я их сделал» [13; 304–305], – сообщал Булгаков брату в Париж в сентябре 1933-го, и, как всякое письмо за рубеж, оно было особенно продумано и, возможно, призвано послужить сигналом для тех, кто определял участь булгаковских произведений на родине.
Изменения, о которых шла речь, касались главным образом финала, где от автора, в соответствии с новым мхатовским договором, потребовали:
«а) переработать последнюю картину по линии Хлудова, причем линия Хлудова должна привести его к самоубийству как человека, осознавшего беспочвенность своей идеи;
б) переработать последнюю картину по линии Голубкова и Серафимы так, чтобы оба эти персонажа остались за границей;
в) переработать в 4-й картине сцену между главнокомандующим и Хлудовым так, чтобы наилучше разъяснить болезнь Хлудова, связанную с осознанием порочности той идеи, которой он отдался, и проистекавшую отсюда ненависть его к главнокомандующему, который своей идеей подменял хлудовскую идею» [13; 304–305].
Булгаков с этими требованиями согласился и все переработал, хотя Елена Сергеевна и записала в один из сентябрьских дней 1933 года: «Сегодня обедала у нас Оля. Только сели за стол, разразился скандал. Оля сказала, что был разговор в Театре о „Беге“. Немирович сказал, что не знает автора упрямей, чем Булгаков, что на все уговоры он будет любезно улыбаться, но ничего не сделает в смысле поправок» [21; 18]. Но автор был настроен на этот раз иначе. «Насчет БЕГА не беспокойтесь. Хоть я и устал, как собака, но обдумываю и работаю», – написал он еще в июне 1933-го режиссеру Илье Судакову, тому самому, кто ставил семью годами ранее «Турбиных». Несмотря на то, что новый финал с самоубийством Хлудова многим понравился меньше, с чем автор на словах не согласился: «Афиногенов М. А-чу: – Читал ваш „Бег“, мне очень нравится, но первый финал был лучше. – Нет, второй лучше. (С выстрелом Хлудова)», – дело завертелось.
«15 октября <…> Судаков как будто начинает понимать, что такое сны в „Беге“ <…> Может быть, Судаков и доведет на этот раз до конца „Бег“» [21; 23], – записывала Елена Сергеевна.
«3 ноября <…> Федя (Михальский. – А. В.) предсказывал: <…> „Бег“ пойдет» [21; 26].
Но:
«26 ноября <…> Потом Оля (Бокшанская. – А. В.) прибавила: – Да, „Бег“, конечно, тоже не пойдет» [21; 30].
Права оказалась Бокшанская: «Бег» не пошел. Ни тогда, в 1933-м, ни год спустя, в 1934-м, когда Елена Сергеевна записывала вехи переменчивой судьбы самой пронзительной булгаковской пьесы:
«8 сентября. По дороге в Театр встреча с Судаковым. – Вы знаете, М. А., положение с „Бегом“ очень и очень неплохое. Говорят – ставьте. Очень одобряет и Иосиф Виссарионович и Авель Сафронович. Вот только бы Бубнов не стал мешать(?!)».
«18 сентября. Илья – настоящий бандит. Все его разговоры о „Беге“ – пустые враки» [21; 60].
«8 ноября. Звонок телефонный – Оля. Длинный разговор. В конце: – Да, кстати, я уже несколько дней собиралась тебе сказать. Ты знаешь, кажется, „Бег“ разрешили. На днях звонили к Владимиру Ивановичу из ЦК, спрашивали его мнения об этой пьесе. Ну, он, конечно, страшно расхваливал, сказал, что замечательная вещь. Ему ответили: „Мы учтем ваше мнение“. А на рауте, который был по поводу праздника, Судаков подошел к Вл. Ив. и сказал, что он добился разрешения „Бега“. Сегодня уж Судаков говорил Жене (муж О. С. Бокшанской. – А. В.), что надо распределять роли по „Бегу“. Жене очень хочется играть кого-нибудь!»
И – наконец финальное, похоронное: «21 ноября. День имянин М. А. <…> был звонок Оли – поздравление и сообщение, что „Бег“ не разрешили. М. А. принял это с полнейшим спокойствием. Кто запретил – не могла добиться от Оли» [21; 67 68].
Булгаков если и держался спокойно, все равно можно представить, сколько нервов забирали у него взмывающие все выше и падающие все стремительнее «качели судьбы», и неслучайно параллельно с записями о судьбе «Бега» Елена Сергеевна фиксировала в дневнике: «У М. А. плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночества. Думает, не обратиться ли к гипнозу» [21; 62].
А доброжелатели меж тем давали ему свои гипнотические советы, как теперь быть и о чем писать. «Кнорре зашел в филиал, вызвал М. А. и очень тонко, очень обходительно предложил тему – „прекрасную – о перевоспитании бандитов в трудовых коммунах ОГПУ“ – так вот, не хочет ли М. А. вместе с ними работать. М. А. не менее обходительно отказался» [21; 31], – записала Елена Сергеевна 8 декабря 1933 года, а месяц спустя, 3 января 1934 года, отметила похожий по тону диалог:
«Жуховицкий за ужином:
– Не то вы делаете, Михаил Афанасьевич, не то! Вам бы надо с бригадой на какой-нибудь завод или на Беломорский канал. Взяли бы с собой таких молодцов, которые все равно писать не могут, зато они ваши чемоданы бы носили…
– Я не то что на Беломорский канал – в Малаховку не поеду, так я устал» [21; 36].
Устал, но продолжал работать и совсем не над теми темами, которые были актуальны на втором году второй пятилетки и в канун Первого съезда советских писателей. Вместо того, чтобы писать о настоящем, Булгаков вернулся к брошенной пьесе о будущих временах, но советы «друзей» поехать на Беломорканал использовал.
«…время от времени мажу, сценка за сценкой, комедию» [13; 316], – писал Булгаков в половине марта 1934 года своему жизнеописателю П. С. Попову. А называлась эта комедия «Блаженство», она продолжала фантастическую линию «Адама и Евы», только на этот раз действие оказалось отнесено в далекое будущее – в год 2222-й. Главный герой – изобретатель «машины времени» Евгений Рейн, от которого сбежала жена, поскольку он сильно обнищал, и его случайные попутчики вор-клептоман Юрий Милославский по прозвищу Солист и страдающий идиотизмом бывший князь секретарь домоуправления Святослав Владимирович Бунша-Корецкий, представляющий удостоверение о том, что в год Парижской коммуны его мама изменила папе с кучером Пантелеем и он и есть незаконный плод этого адюльтера: таким образом, если раньше героями становились незаконнорожденные аристократы типа Пьера Безухова, то теперь – незаконнорожденные пролетарии.
Сюжет о путешествии этой парочки – вора и похожего на Ивана Грозного домоуправителя хорошо известен по комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию», в основу которой легла другая и, если так можно выразиться, облегченная по сравнению с «Блаженством» булгаковская пьеса «Иван Васильевич», где речь идет о прошлом. Что же касается «Блаженства», имеющего подзаголовок «Сон инженера Рейна», то эта, обращенная в грядущее, вещь по замыслу была очень серьезна, проблемна, и правы те исследователи, которые говорят о своеобразном булгаковском диалоге с пьесами о будущем, написанными Маяковским, – «Клопом» и «Баней», а также с замятинским романом «Мы». Параллель с последним особенно очевидна. Булгаков фактически написал антиутопию, он изобразил бесклассовое общество XXIII века, жить в котором противно, невыносимо, и всякое живое существо готово оттуда бежать. Уж на что нехорошо в настоящем, где Бунша говорит гениальному изобретателю: «Вы насчет своей машины заявите в милицию. Ее зарегистрировать надо, а то в четырнадцатой квартире уже говорили, что вы такой аппарат строите, чтобы на нем из-под советской власти улететь. А это, знаете, и вы погибнете, и я с вами за компанию», а после этого звонит в «милицию» (читай в НКВД) и докладывает о том, что в Банном переулке появился царь Иван Грозный, но даже такой мир выглядит человечнее и притягательнее Голубой вертикали и совершенной гармонии с ее обитателями и правителями – Народным комиссаром изобретений (в первой редакции Председателем Совета народных комиссаров) товарищем Радамановым и директором института Гармонии Фердинандом Саввичем. В счастливом будущем никто не понимает, что такое прописка, милиция, профсоюз, однако в словах вора Юрия Милославского: «Трамваи сейчас в Москве ходят! Народ суетится! Весело! В Большом театре сейчас утренник. В буфете давка! Там сейчас антракт! Мне там надо быть! Тоскую я!» – звучит не столько ирония, сколько тоска по живой жизни, которой в «Блаженстве» и не пахнет («Мне скучно, бес», – жалуется главная героиня цитатой из пушкинской «Сцены из Фауста»), тем более что в этом новом мире к пришельцам относятся не менее жестко, чем в сталинском СССР. От Рейна требуют отдать его изобретение, после чего «трех лиц, которые прилетели из двадцатого века, Институт постановил изолировать на год для лечения, потому что… они опасны для нашего общества». Против подобной меры восстает даже Радаманов, но его возможности сильно ограничены – словом, будущее вышло отвратительное да к тому же до тошноты комфортабельное, как говорит в одной из черновых редакций томящаяся благополучным существованием и живущая в предчувствии и ожидании чего-то необыкновенного невеста Саввича Аврора Радаманова. Женщины будущего с их вечной и неизменной потребностью в любви – Аврора, которая таки отвергает любовь директора Института Гармонии, счастливого тем, что он осчастливил все человечество, и не способного сделать счастливым себя и любимую женщину, и которая отвечает взаимностью на любовь человека XX века Рейна, и отдающаяся Милославскому секретарша Радаманова Анна выглядят гораздо привлекательнее мужчин. В изображении верной, безоглядной и нерасчетливой женской любви Булгаков был удивительно постоянен и трогателен, и мотив этот шел в его творчестве по нарастающей.