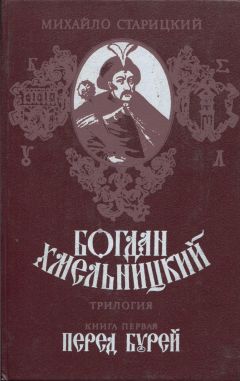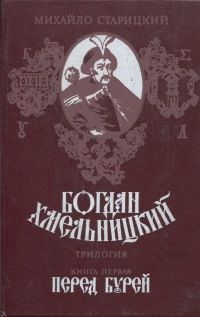— Так ты, пане господарю, с того бы и начал, что она дочь товарища, — заметил дед, кивая головою, — а кем был этот товарищ раньше, — нам байдуже.
— А и вправду так, — подхватил и Ганджа, — на Запорожье ведь к славному товарыству доступ всем волен, — лях ли ты, татарин ли, турок — приди, прочитай «Верую» да «Отче наш» да перекрестись... вот и все!
— На том и стоит Запорожье, — заметил Золотаренко, — оттого-то и переводу нет нашим орлам, что оберегают родной край и от татарина, и от лихого пана, непрошенного гостя, так вот и эта панна Марылька, выходит, уже не панна и не Марылька, а вольная козачка, дочь нашего товарища, значит, должна носить христианское имя, Марина, что ли, — баста!
— Я ей пока не сообщал истины про ее отца, — замялся как-то Богдан, — ведь она была пленницей у татар и про своего батька, про смерть его не знает. Я скрыл от малой еще дытыны, натерпевшейся и без того лиха в неволе, это тяжкое горе; потом ее приютил у себя Оссолинский, а я отправился, как вам известно, по королевским справам в чужие края... Так она, значит, и думает до сих пор, что батько ее только запропастился куда-то, что его можно и разыскать... Вот почему я вас, панове, и прошу не разглашать этой истории, пока я не приготовлю Марыльку к смерти батька.
Все согласились с Богданом и отнеслись с теплою похвалой к его сердцу, откликнувшемуся с бескорыстным участием на предсмертный завет побратыма.
— Что и толковать, — заключил дед, — божье дело! И спасена душа та, что осушит сиротские слезы!
Хотя Богдан и видел разрушительное шествие болезни своей жены, хотя и сознавал, что приближаются уже последние мгновения ее страданий, но все-таки его радовали и тешили эти временные облегчения, дававшие жене и забытье, и покой.
Заснет, под влиянием наркотического питья, больная, и Марылька позволит себе выйти в большую светлицу, а Богдан уже сидит там и передает своей детворе какой-либо случай из его боевых пригод или рассказывает про чужие страны, про цветущие города, про высокие горы, прячущие в облаках свои белые вершины, про широкие моря, играющие нежною лазурью...
А молодые хлопцы и подлетки-доньки по-прежнему льнут к своему тату и просят все рассказывать побольше да подлиннее; Марылька тоже присядет, бывало, скромно к этой группе, целует и ласкает своих новоприобретенных сестер, расчесывает им головки по варшавской моде и не сводит очей с своего любого тата. Одна только Ганна не принимала живого участия в этих беседах; она вся отдалась делам благотворительности: устраивала приюты беглецам, калекам, ухаживала за больными и по целым дням не бывала дома, а если случайно и заставала иногда в светлице такую нежную семейную сцену, то с опущенными глазами уходила назад. Богдан ловил иногда грустный серьезный взгляд ее лучистых очей, и ему становилось жутко и непокойно на сердце, он читал в них какой-то немой, но заслуженный им укор.
А то, бывало, пригласит Богдан и детей своих, и Марыльку на свою половину, чтобы не беспокоить уснувшей жены. Дети были в восторге от такой редкой для них ласки и с веселым шумом бежали через широкие сени в батьковские покои: хлопцам была великая радость полюбоваться дорогим отцовским оружием и другими диковинками, развешанными по стенам, расставленными по полицам, а дивчат особенно привлекала бандура. Здесь уже можно было попросить батька ударить по струнам, а как он играл! Мертвый, кажись бы, встал из могилы послушать его шумки и думки.
Теперь Богдан не заставлял себя и просить; только придут к нему, сейчас он снимет со стены розважницу туги, и запоют, заговорят струны, да так заговорят выразительно, что Марылька вся вспыхнет румянцем и опустит на нежные щеки тонкие стрелы темных ресниц.
Иногда Богдан заставлял Катрю спеть песню под переливы тихого звона бандуры. Голос ее, не совсем еще окрепший, звучал тем не менее серебром, задушевная, безыскусственная мелодия лилась прямо каждому в сердце, заставляя отзывчиво звучать его струны.
— Ах, какие ваши песни! — всплеснет, бывало, руками — Марылька. — В них и слеза, и ласка, и бесконечная жалость, словно матери передает кто свое горе! Катруся, милая, дорогая моя, научи меня этим песням, научи, — покроет ее поцелуями панна, — а я тебя научу своим песенкам.
— Вот и отлично, — отзовется трепещущий от восторга Богдан, — учитесь, доньки, одна у другой, перенимайте лучшее, всякого ведь бог наделил особым добром, так нужно им и делиться. Да полюбите, мои любые, дружка дружку, без хитрости и щыро. По воле божьей Марылька в нашей семье, а она тебе, Катрусю, и тебе, Оленко, может быть, господи, как полезна! Марылька видела большой свет, магнатские звычаи и обычаи, а вы, хуторянки, кроме Суботова, ничего не видали.
— Я всему, всему, что знаю, буду учить тебя, Катрусю, и тебя, Оленко, — обнимала сестер своих Марылька, — через год увидите, и в королевский дворец можно будет выехать смело.
Катря обняла Марыльку, а Оленка надула губы и, отвернувшись, проговорила:
— На черта нам дворец, мне лучше на скобзалку.
— Вот тебе и на! — засмеялся Богдан. — И давай ей эдукацию! Ты бы променяла на дворец и коровник.
— А что же, тату, — посмотрела исподлобья Оленка, — и в коровнике весело, особенно когда придут Марта, Ликера, Явдоха и Явтух.
Марылька бросила в ее сторону презрительный взгляд, но, спохватившись, сменила его снисходительною улыбкой.
— Нельзя так, Оленка, судить, — погладила она ее по головке, — кто знает, а может, придется и тебе быть во дворце, — и она бросила украдкой на Богдана пламенный, вызывающий взгляд.
— Куда им! — засмеялся Богдан и взял несколько аккордов. — Ану, Марылько, — поднял он на нее восхищенные очи, — а ну, моя квиточко, пропой какую-либо песенку, а я подберу пригравання.
Марылька начала напевать веселенькую мазуречку; вскоре под звон бандуры раздалось увлекательное пение. Зажигательный мотив, исполненный сильным, сочным голосом, производил неотразимое впечатление, наполнял серебром руллад светлицу, а глаза Марыльки искрились таким зноем страсти, что Богдан в порыве восторга взял так сильно аккорд, что струны взвизгнули и лопнули.
Дверь тихо отворилась, и на пороге стала незаметно Ганна. Звуки бандуры и пение давно привлекли ее внимание и изумили несказанно; в то время, когда над этим будынком веяло черное крыло смерти, они казались ей святотатством. Ганна бросила строгий взгляд на застывшую в увлекательной позе Марыльку, перевела его на опьяненного восторгом Богдана, на озаренные живою радостью лица детей и занемела, глубоко потрясенная и возмущенная сценой.
— Титочка стонут и плачут, — сказала она тихо, хотя в ее голосе послышалась непослушная дрожь горькой укоризны.
— Боже! Неужели мы ее разбудили? — всполошился Богдан.
— Пение и бандура долетали и туда, — еще тише проговорила Ганна.
— Но не через нее же, надеюсь, она плачет, — с досадой и тревогой возразил Богдан.
Вообще появление и сообщение Ганны неприятно задело его; он увидел в нем какой-то ригоризм, накидывающий узду на его волю.
— Нет, не через пение, — уже уверенно заявил он. — Кого может оскорбить песня и дума? Никого и никогда. Маме, может быть, хуже, так пойдем, детки, к ней!
— Я даже думаю, тато, — отозвалась скромно Марылька, — что музыка на такую больную должна действовать успокоительно и для больной бы следовало, в минуты облегчения, нарочито сыграть или спеть что-либо; это б, кроме всего, подняло у нее бодрость духа, а значит, и силы... Больной именно нужно показать, что близкие не убиты тоской, что, значит, положение ее улучшилось, а показное горе, — подчеркнула Марылька, — убило бы ее сразу.
— Правдивое твое слово, моя дытыно, — поцеловал Богдан в лоб Марыльку и отправился в сени.
Ганна побледнела заметно, и ее расширившиеся глаза потемнели.
В сенях Богдан остановил ее ласковым словом:
— Голубко, Ганнуся, упаднице моя любая!
Марылька, услыхавши эту фразу, остановилась было на пороге и, в свою очередь, побледнела, но Катря увлекла ее к матери.
Ганна задрожала, и если бы сени были светлее, то можно бы было заметить, как говорящие глаза ее переполнились слезами.
— Вот еще к тебе моя просьба, — наклонившись к ней, продолжал тихо Богдан. — Не можешь ли ты приютить у себя эту Марыльку, а то в большой светлице с дивчатами ей неудобно, да и больная постоянно то тем, то другим тревожит... панночка видимо побледнела... да и ее покоевка валяется по кухням... Они ведь обе привыкли к роскоши, к неге, не то, что мы, грубые... Да и то еще нехорошо, что Марылька, по своей ангельской доброте, приняла на себя роль сиделки возле больной, а мы словно обрадовались этому, напосели... совсем змарнила и извелась бедная деточка...