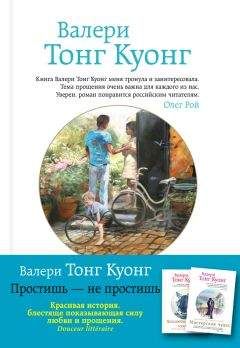— Вот ещё фрукт! — расхохоталась Татьяна. — Помнишь, какой он был в Универе? Рыжий такой, кудлатый, с пузцом. Знаменитостью потом стал! А как вы с ним подрались на свадьбе! Не помню, кто кого победил? Ну да, он же ко мне приставать начал! Да так настырно! Я перепугалась вся…
— Он сейчас здесь, — сказал я и понял, что нарушил тайну. — Только об этом нельзя никому говорить.
— Здесь, в Стрельцове? Материал для газетки собирает? Ну, здесь есть о чём написать! Тот же Лука…
— Нет, не в этом дело… Тань, извини, это я проболтался. Он тут тайно находится, о нём нельзя никому рассказывать. Прячется он.
— Ну мне-то можно, я никому не скажу! А от кого прячется, от кредиторов?
— Да, да… Послушай, ты Стаса Носова знаешь? Местного редактора?
— Немножко, а что?
— Он меня приглашает завтра на день рожденья… Может быть, вместе сходим?
— Конечно, сходим! — сказала она легко. — Хватит мне уже дома куковать. А он не рассердится, что я незваной? А что ему можно подарить?
Мы уговорились встретиться завтра вечером на Володарской, чтобы оттуда отправиться в гости к Носову.
ГЛАГОЛ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ. ЯГГА ПОЁТ ОХОТНИЧЬЮ ПЕСНЮ
Эти чащи, эти чащи,
Эти ручьи с ледяною водою,
Там тёмная плещет листва,
Там бурлит студеный поток,
Там олень лесной, великий царь,
Метит рогами дубы вековые,
Рвёт копытами мягкий мох,
Трубит, поёт для влюблённой подруги.
Олень-великан, владыка лесов,
Так легко сквозь густую чащу
Ты бежишь, могучий царь,
Как в чистом небе легко пролетает
Пёстрый орёл, хозяин полудня.
Олень-великан, владыка лесов,
Так свободно по дебрям густым
Ты бежишь, могучий царь,
Как в чистой воде легко скользит
Жемчужный лосось, хозяин рек.
Скажи мне, олень,
Скажи мне, царь,
Кто это ждёт тебя на скале,
Ветку тиса сжимая в руках,
В жилу воловью вцепившись пальцами?
Не Ягга ли это, дева-охотница,
Не смерть ли твоя тебя поджидает?
Сейчас ты услышишь прекрасную песнь,
Её споёт моя тетива, —
Начнёт тетива, подхватит стрела,
И кровь твоя её завершит.
Пляши, олень, под эту песнь,
Подпрыгни до неба, свались на мох,
Выгни спину, взмахни головой,
Выбей копытами жаркую дробь,
Порадуй смерть неистовой пляской.
То не стрела к тебе летит,
То Ягга сама тебя настигает.
То не кремень рвёт тебе жилу,
То Ягга впилась в тебя зубами.
Оленьей кровью окрашу лицо:
Я — Солнце восхода!
Оленьим жиром тело натру:
Я — Луна Полнолуния!
В моей руке быстрая смерть:
Я — владычица жизни!
В моей душе холодный огонь:
Я — дарящая смерть!
Гуще лейся бурная кровь!
Горше заплачь красавица-мать!
Прекрасная Уна, жадная Уна,
Красы пожалевшая
Для бедной дочери!
Не поделилась ни каплей красы своей
С бедной Яггой, с костлявой Яггой,
Плосколицей, как в небе Луна,
Круглоглазой, как птица ночная,
Редкозубой, как старая щука.
Добрая мать, дочку родив,
Бледнеет лицом, тяжелеет станом:
Отдала красу любимой дочери, —
Сделала ей великий подарок.
Но матушка Уна, Яггу родив,
Ещё ослепительней засияла:
Отняла, жадная, у бедной Ягги
И ту красу, что отец ей дал.
Будет Ягга бродить по лесам.
Будет летать круглоглазой совой,
Будет нырять редкозубою щукой,
Будет кровью дань собирать,
Будет смертью дарить-награждать.
Пусть заплачет робкая Уна,
Почуяв запах липкой крови.
* * *
Я вернулся домой самым счастливым человеком в мире, — и тут же попал под ураганный огонь. Новосёлов бегал по квартире, подпрыгивая от злости, рвал на клочки журналы «Крокодил» и сбрасывал книги с полок.
— По бабам ходишь! — вопил он, бледный, с трясущимися руками, возмущённый так, словно я у него увёл этих воображаемых баб. — По бабам, да?! А я — сиди ровно?! Да я тут всё разнесу! Я тут чашки целой не оставлю! Дай пройти! Дай, говорю, пройти! Я выйти хочу! Тут дышать нечем! Я…
Он затряс кулачком у меня под носом, но я почти безотчётно перехватил этот кулачок и вывернул Олегу руку, так, что сустав его громко стрельнул. Ньюкантри завизжал в голос и попытался брыкнуть меня ногой. Я с силой толкнул его в спину, — он пролетел через всю комнату и врезался головой в диван. Я подошёл к нему, — как ни странно, моё радужное настроение нисколько не пострадало от этой короткой стычки, и я почти ласково похлопал Олега по плечу. Он рывком повернулся ко мне — красный, заплаканный, гневно шипящий.
— Ну что же ты, дитятко! — сказал я ему мягко. — Неужто мы с тобой не договорились? Неужто мне ещё раз придётся объяснять тебе, что выходить на улицу опасно? Ты сюда не развлекаться приехал, — прими и смирись.
Он минут пять шипел и сипел, не в силах выговорить ни слова, потом кое-как совладал со своим речевым аппаратом.
— У… У… Убить… Ср… Хр… Плевать я хотел! — вот первое, что он сумел произнести. — Что ты несёшь? Кто меня в твоём вонючем городишке найдёт? Да твой Стрельцов на карте без лупы не разглядишь! Да про него никто и не знает, кроме тебя! Да это — дыра, дыра, помойка всесветная! Ты просто не хочешь меня выпускать на люди! Ты же здесь король! столичная штучка! гиена пера! Боишься, что я начну затмевать тебя! Боишься, что люди сравнят твою дерьмовую «Стройгазету» и мой «Сумрак»… В твою ли пользу сравнение? Я — звезда! Я — знаменитость! Я… Меня через сто лет в школах изучать будут, — правда-правда! Это мне сам Альберт Курочкин предсказал! А ты — дерьмо! Не обижайся на правду, но ты — дерьмо! Ты в сравнении со мной — щен! Ну согласись, что ты — полный нуль! Что ты можешь возразить? Что ты можешь предъявить потомкам? А? Что? Вот, что! — он повернулся спиной и звонко шлёпнул себя по заднице.
Видимо, всё это было очень обидно, но я всё ещё витал душой возле монастырских стен, всё ещё сжимал горячей рукой узкую, холодную ладошку Татьяны, — и я слушал Ньюкантри, и улыбался.
— Хорошо, — сказал я, — замечательно! У нас дыра, у нас глушь. Отлично. Ты хочешь погулять по вселенской помойке? Иди! Иди, гуляй! Ищи себе баб, если ты мне так завидуешь: всё, что найдёшь — твоё! В конце концов, денег мне никто не заплатит за твоё спасение, — чего ради я стараюсь? Ради счастья послушать твои визги? Нет, Олег, я серьёзно говорю: иди на все четыре стороны! Да вот, — отличный повод: завтра в местной редакции праздник, — хочешь, я тебя отведу туда? Нет, правда, сабантуй намечается отменный, тебе должно понравиться. Сходи! Только сначала оставь мне расписку, что в твоей смерти меня винить не следует.
Постепенно Олег отмяк. Сообщение о редакционном юбилее он выслушал уже с интересом. Мы обсудили план действий и решили, что рискнём, — вот только предупредим сперва Носова, чтобы он не разболтал, — и будь, что будет!
* * *
Весь следующий день я пытался дозвониться до Татьяны, — но не мог этого сделать: то трубку не снимали, то номер был занят. Изрядно разволновавшись, я начал собираться на праздник: одел отцовский парадный костюм, — на нём он сидел изумительно, а мне был чуть-чуть коротковат, чуть-чуть тесноват и топорщился в самых неподходящих местах, — но я решил не брать в голову такие мелочи. Ньюкантри отпарил свой фирменный костюмчик и теперь вот уже час вертелся перед зеркалом: расправлял складочки, одёргивал полы, давил прыщи, причёсывался минут двадцать, — сначала простой расчёской, потом массажной, потом опять простой. Потом расчесал свою бороду, посмотрел на неё в зеркало слева-справа, и вдруг яростно взлохматил её, а вслед за ней взлохматил и тщательно расчёсанные волосы. Тут он решил, что сборы окончены и повернулся ко мне своей сияющей, самодовольной рожей:
— Ну, что ж, друг мой, не пора ли выступать?
Я сначала отправился на Володарскую улицу, где мы договаривались встретиться с Татьяной, но Таньки там не было. Ждали десять минут, ждали двадцать, потом Ньюкантри раскапризничался, на нас стали оборачиваться, и я, опасаясь за его инкогнито, поспешил к двухэтажному редакционному особнячку.
Ещё в вестибюле нас оглушила льющаяся со второго этажа музыка и лихие вопли подгулявших стрельцовских журналистов… На лестнице Новосёлов вдруг запыхался и отстал.
— Что с тобой? — спросил я через плечо.
— Живот!.. — простонал он. — Это всё твои полуфабрикаты! Ох ты, какая катастрофа… Где тут у них помещение?
— На втором этаже. Как зайдёшь, сразу налево. Ну, давай, мужайся, одолей ещё пять ступенек!
Бледный и потный, Ньюкантри вскарабкался на площадку и открыл дверь. И лицом к лицу столкнулся со Славкой Носовым, весело болтавшим с дамами в прихожей. Носов был крепким, жизнерадостным мужиком, русобородым и широкоплечим; года три назад он успешно бросил пить, но лёгкая алкогольная помятость навсегда отпечатлелась на его лице; сейчас он держал в руке высокий хрустальный бокал с каким-то бурым лимонадцем. Он моментально узнал знакомого по портретам Ньюкантри, чрезвычайно обрадовался, закричал и заплясал от восторга: