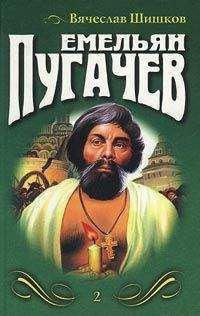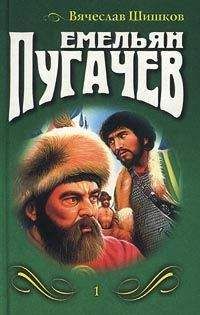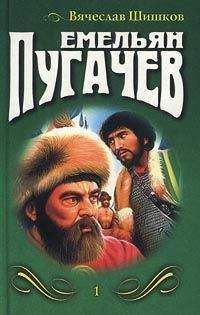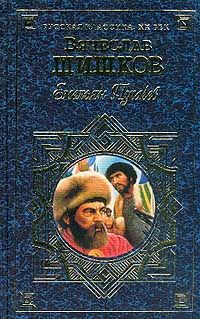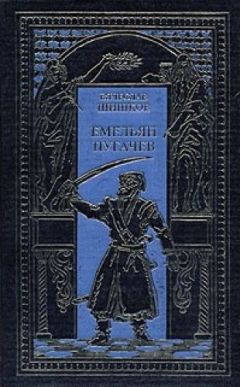– Надлежало бы их на путь наставить да к присяге привести. Авось в ум войдут да нам верно служить будут, – присматриваясь к толпе, сказал Пугачёв.
Поднялся шум. Два степенных казака, Овчинников да Максим Шигаев, стали внушать «батюшке», что казачество этим людям не верит. Они, мол, богатенькие, им и присяга не присяга, они, мол, все равно государевых слуг мутить станут.
– В прошлом году зимой – тебе, батюшка, ведомо – в войске яицком мутня была, – сказал Максим Шигаев, помахивая концами пальцев по надвое расчесанной бороде, – в те поры наши казаки генерала Траубенберга прикончили. Так уже мы знаем, что эти молодчики старшинской руки держались, супротив громады шли.
– В нас, в казаков войсковой бедняцкой руки, картечами палили!
– Истинная правда… Так! – снова зашумели в толпе.
– Не лучше ль, батюшка, ваше величество, – сказал Овчинников, – повесить их, чтоб им в наказанье, а прочим во страх.
– За Витошнова-старика мы поручимся, – кричали казаки. – И за Гришуху Бородина поручимся, даром что он племянник Мартемьяна, нашего гонителя. А этих – смерти предать! Довольно им измываться над нами!
Пугачёв насупился, невнятно пробурчал: «Верно, ежели попала под каблук змея – топчи!..» – взмахнул рукой и резко возгласил:
– Быть по-вашему!
Кривой, «страховидный» казак Бурнов, избравший себе службу царского палача, поспешил исполнить повеленье «батюшки».
Глава 4.
Именное повеление. Клятва. «Бал продолжается!»
Капитан Крылов возвратился домой поздним вечером, было темно, в теплом небе звезды мерцали, Ваня уже спал.
– Ну, мать, пропало войско яицкое, – раздраженно сказал он жене. – Казачишки бегут к вору, как полоумные… Ужо-ко он медом будет их кормить.
Андрюшка Витошнов сбежал, старый черт, с целой сотней дураков, да утром утекло полсотни… Заваривается каша!
Семеныч подал капитану умыться, капитанша принесла бок жареной индейки да флягу с травничком, однако Крылов за стол не сел, а поспешил к коменданту.
У Симонова сидели Мартемьян Бородин и секунд-майор Наумов, пили чай с вареньем из ежевики и с сотовым медом. Крылова пригласили к столу. Вместо захворавшей комендантши чай разливала Даша, миловидная девушка, приемная дочь Симонова.
– Подкрепился дома-то? – спросил Симонов Крылова.
– Не успел, господин полковник.
– Дашенька, скомандуй-ка борщу капитану… Отменный борщ!
Крылов вынул из кармана бумагу мятежников и, рассказав, как она попала к нему, передал её коменданту.
Тот надел очки, приблизил к себе свечу, стал вслух читать:
– «Войска Яицкого коменданту, казакам, всем служивым и всякого звания людям мое именное повеление».
– Ах, бестия! Складно… И почерк добрый, – встряхнул бумагой комендант. – Неужели сам он, Пугач, писал?
Мартемьян Бородин заглянул через плечо Симонову в бумагу и, распространяя сивушный дух, прохрипел:
– Сдается мне – Ванька Почиталин это. Его рука. Его, его! Он лучший писчик по всему Яику, он, помнится, мои атаманские реляции, на высочайшее имя приносимые, перебелял… Он, он!.. Недаром к вору удрал, наглец…
Только бы поймать, праву руку отсеку пащенку! Стойте-ка, – тучный Бородин, опершись о столешницу, поднялся, шустро подошел к окну и, распахнув раму, заорал во тьму сентябрьской ночи:
– Эй, казак!.. Дежурный! Скачи к Яшке Почиталину, веди его, усатого дьявола, на веревке в искряную избу либо на гауптвахту. Да пук розог приготовь! Приведешь, мне доложишь…
– Напрасно хлопочешь, Мартемьян Иваныч, – вмешался Крылов, с аппетитом хлебая борщ. – Яков Почиталин и племянник твой Григорий с казаками к вору утекли…
– Да ну-у?! – протянул Бородин и снова заорал в окно:
– Эй, казак! Отставить!
Симонов, поморщившись, сказал Бородину:
– Экой ты неспокойный. Сядь, – и стал продолжать чтение «воровской» бумаги:
– «Как деды и отцы служили предкам моим, так и мне послужите, великому государю, и за то будете жалованы крестом и бородою, реками и морями, денежным жалованьем и всякою вольностью». (Вот он чем берет их, болванов, – заметил Симонов.) «Повеление мое исполняйте и со усердием меня, великого государя, встречайте, а если будете противиться, то восчувствуете как от бога, так и от меня гнев. Великий государь Петр Третий Всероссийский».
Симонов отшвырнул бумагу, а Бородин затряс усищами, зашумел:
– Встретим, дай срок! Уж мы тебя, злодея, встретим… Ах, ты, каторжник, ах ты, рыло неумытое. Царь… Ха-ха-ха! Мы те покажем Петра Третьего Всероссийского!.. А нут-ка, Андрей Прохорыч, отмахни мне кусочек поросятинки. Ха, подумаешь, дерьмо какое, в цари полез!.. Дашенька, подай мне, старику, горчички да водочки чуток… С горя, ей-богу, с горя! Ведь я, Дашенька, кумекал с Гришкой окрутить тебя святым венцом, а глянь, что вышло… Ну, подожди ж, племянничек родимый…
В просторной горнице темно, лишь две свечи в бронзовых подсвечниках горели, и никто не заметил, как густо скраснела Дашенька: у ней на сердце не Гришка Бородин, а гвардии сержант Митя Николаев. Где-то он, благополучен ли? Поди, уж к Оренбургу подъезжает. Ой, Митя, Митя!.. Уехал и проститься позабыл.
…А в это время сержанту Николаеву рубили ножом косу: подвели к стоячему дереву, примостили затылком да и тяпнули.
– Ну вот, и казаком стал, – проговорил краснощекий Тимоха Мясников и бросил пук волос в траву.
– А ведь ты, Николаев, из господишек: либо сбежишь, либо нас продашь, – сказал Митька Лысов и зло захохотал.
– Ни то, ни другое, – сердито возразил сержант. – Не хуже вас служить стану государю…
– Ой ли?.. – и нахрапистый Митька, опять захохотав, погрозил сержанту пальцем.
…По белой стене мотались-елозили тени от сидящих за столом. Вот одна быстро издыбила и уперлась головой в потолок. Это поднялся комендант, полковник Симонов:
– Значит, как я и говорил вам на совещании… (Крылов, опоздавший к совещанию, особо внимательно вслушивался в слова начальника.) В першпективе предстоят нам немалые хлопоты со злодейской толпой. Добро, ежели поймаем вора… Только как ловить будем, какими силами? У меня пятнадцать штаб-и обер-офицеров, пятьдесят три сержанта с унтер-офицерами да семьсот человек рядовых, ну еще сотня оренбургских казаков, на коих, признаться, я шибко-то положиться не могу. Вот и вся моя воинская сила! А крепостца наша, увы, в самом плачевном положении. Вот в каких обстоятельствах застает неимоверный по внезапности и каверзный по дерзости своей подлый казус. И доверительно вам говорю, господа командиры, не могу я решиться на риск вывести все наши силы за городок, чтоб сразить злодея: выведешь, да, чего доброго, и назад не вернешься. Ведь сами знаете, каково настроение яицких казаков и всех жителей в городке, население при всякой в наших рядах заминке примет сторону самозванца.
– Искру туши до пожара, беду отводи до удара, господин полковник, – сказал Крылов.
– То-то же и есть! – в волнении воскликнул Симонов, ероша стриженные в бобрик волосы. – Пуще всего опасаюсь, что искра разгорится в пламя… при нашем невольном попустительстве. – Он вздохнул и потупился. И все вздохнули. – Итак, взвешивая обстоятельства, нам волей-неволей остается взять тактику оборонительную. И положиться на господа бога, а наипаче на самих себя. Гм, гм… Надеяться на помощь Оренбурга вряд ли следует:
Рейнсдорп сам может оказаться в опасном состоянии. Да еще неизвестно, когда мой курьер сержант Николаев доскачет до него, а может, и вовсе не доскачет… – потряхивая головой, тихо, с грустью, закончил он.
Черноволосая круглощекая Дашенька при этих словах заморгала и незаметно смахнула тонкими пальцами навернувшиеся слезы.
Гости раскланялись с хозяевами, пошли к выходу. Симонов, остановив Бородина, взял его под руку, отвел к окну.
– Вот что, господин старшина, – сказал он, – хотя ты такой же полковник, как и я…
– И сверх сего бывший войсковой атаман, – проговорил басом Мартемьян Бородин, вскинув на Симонова мутные полупьяные глаза.
– Да, – подтвердил Симонов. – Но все-таки хоть ты и «сверх сего», а подо мной, брат, служишь, ибо я комендант вверенной мне её величеством крепости. А посему, имея в виду времена тревожные, приказываю тебе: пить брось! – резко сказал Симонов. – Ежели хоть однажды нарушишь мое приказание – на меня не пеняй: тотчас будешь посажен на гауптвахту и к тебе будет приставлен лекарь с пиявками и рвотным…
– Да боже сохрани! Да что вы, Иван Данилыч, батюшка. Брошу, брошу!..
Ведь я и не пью много-то. Ведь это я с праздника покуролесил, Воздвиженьев день был, – заторопился, запыхтел Мартемьян Бородин, – двадцать пять лет верой и правдой служу всемилостивой. И верность свою докажу её величеству.
Рубите мне голову с плеч, ежели я на аркане не приведу к вам вора Емельку!
– потрясая кулаками и жирным загривком, закричал Мартемьян Бородин, отечные мешки под его глазами взмокли, он скривил рот и пьяно завсхлипывал.