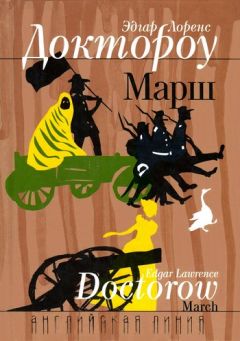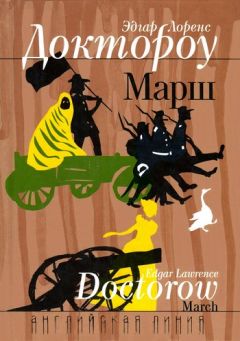Вот, возьмите, мисси, — сказал мужчина, который спас ее. Он набросил на нее одеяло. — Лучше не мешкать. Бог дал этим людям свободу, но это еще не все. Идемте. Мужчина был высокий, стоял в расстегнутом форменном кителе, потрепанных штанах и босиком. Взял Вильму за руку, помог ей подняться и повел по дороге. Она все оборачивалась, смотрела назад, пока русло реки не скрылось из глаз. Лишь крики долетали до них из-за реки и терялись, затихали в лесу.
Перл навсегда запомнила ту ночь, когда она увидела убитых солдат. Их тела, лежащие на залитой голубоватым лунным светом земле. Двенадцать — как двенадцать поверженных статуй. И лейтенанта Кларка, с удивленным видом глядящего в никуда. Она спряталась на краю поля и смотрела, как местные жители подъехали на телеге. Несколько белых и два негра — чтобы было на кого взвалить черную работу. Они грубо побросали тела на телегу, словно это куски говяжьих туш. Вслед за телегой Перл дошла до кладбища и из кустов смотрела, как, орудуя кирками и лопатами, там роют могилу. Рыли и непрестанно озирались, не видит ли кто. Мертвецов хоронили всю ночь, только к рассвету закончили.
Перл неостановимо била дрожь. Стучали зубы. Глянула, что у нее в руке, оказалось — его письмо. В первых лучах утреннего света луна побледнела, поле из черного сделалось серым, и Перл поняла, что лучше ей отсюда уходить. Опушкой леса обогнула городок, вернулась на дорогу, по которой они приехали, и прямиком к тому дереву у дороги, где она спрятала свой китель и фуражку. Вновь она закатала платье до пояса, вправила его в штаны и опять сделалась мальчишкой-барабанщиком. Теперь хотя бы есть карман, куда положить письмо.
Не зная, что делать дальше, Перл прислонилась к дереву спиной, села и стала ждать.
Разбудило ее мычание коров. День был в полном разгаре, мимо шла армия — гуртоправы гнали коров и коз, ездовые криками погоняли мулов, солдаты с винтовками на плечах строем шли по обочине, тучей вздымая пыль.
Перл встала и вышла из укрытия. Солдаты оглядывались, улыбались ей, иногда на ходу что-то говорили. Или вдруг проезжающий на коне офицер посмотрит на нее сверху вниз, но останавливаться — нет, останавливаться никто и не думал. Она искала глазами возницу того фургона из ее роты, который успел развернуться, когда началась стрельба. На четырехколесной повозке, груженной награбленным барахлом, проехали какие-то два ряженых мародера — во фраках и цилиндрах. Нет, эти не из ее прежней компании. Едут, хохочут. Увидели ее, один полез в мешок, достал сладкую картофелину, кинул ей.
Она поняла, что лейтенант Кларк и его солдаты пали не в битве. Если они пали в битве, зачем тогда местные хоронили их тела в такой спешке! Нет, сперва была тишина, а потом она услышала залп, видела кровавый след до самых ворот тюрьмы, а главное, видела, что солдаты лежат шеренгой, как их выстроили для расстрела. И они безоружны.
Этим нужно было с кем-то поделиться. Но она все еще не была уверена, что научилась говорить как белые, а если будет говорить как дома, то все поймут, что она не тот, за кого себя выдает, она не белый мальчишка-барабанщик. Как жаль, что нет с нею больше ее учителя лейтенанта — теперь, когда он ей так нужен! В тот момент, когда она решила, что не скажет никому ни слова, перед ней на дороге вдруг выросла фигура офицера с золотыми галунами. Она вскинула руку к козырьку. Его огромный гнедой конь фыркнул, закинул голову, попятился и заходил кругами. Какого черта, — заорал офицер, а Перл все стояла перед ним, держа пальцы у козырька.
Успокоив коня, офицер обратил взгляд на Перл. Ты откуда тут взялся, парнишка? Почему не со своей ротой?
Все мертвые.
Что ты сказал?
Они… типа… Я в смысле… они… эт-самое…
Ты что там мнешься? Говори уже!
Они — ну… как его…
Что они?
Погибли.
Ты что, не знаешь, как надо обращаться к офицеру?
Я знаю.
Я знаю, СЭР!
Вот я и говорю, сэр.
Опусти руку и стой смирно! Черт бы их взял, — сказал офицер другому, остановившемуся рядом с ним. — Теперь он плачет! И как прикажете таких вести в бой?
В тот момент мимо проезжал еще один офицер верхом на маленькой лошаденке, чуть ли не пони, его ноги свисали и почти волочились по земле. У него был совсем не военный вид, запыленный френч наполовину расстегнут, шея повязана платком, на голове старая помятая шляпа, а во рту окурок сигары, торчащий из рыжей, тронутой сединой бороды. Перл навсегда запомнилось это ее первое впечатление от генерала Шермана — выправкой и одеждой он совсем не походил на бравого офицера, и она никогда бы не восприняла его в этом качестве, если бы не почтительность, с которой встретил его красивый и важный дядька, сидящий высоко над ним на огромном гнедом скакуне.
Генерал же на своей маленькой лошаденке был практически на уровне ее глаз. Надо же, какой симпатичный у нас солдатик, — сказал он. — Ты хороший барабанщик, а, сынок?
Перл кивнула.
Нужна большая смелость, чтобы пойти в армию и воевать за свою страну. Барабанщики ведь попадают под огонь, как и все мы, не правда ли?
Да, сэр!
Иногда мне тоже хочется заплакать.
Да, сэр!
А в чем у него проблема? — обратился он к офицеру на гнедом скакуне.
Генерал, он говорит, что потерял свою роту. Полагает, что его товарищи убиты.
А, так они были в авангарде, да, сынок? Вы проходили здесь вчера ночью?
Да, сэр. Да, генерал.
Стало быть, опять нам задала перцу кавалерия Уилера, — сказал Шерман стоящему рядом офицеру. — Должно быть, мы понесли потери.
Нет, генерал… сэр, — сказала Перл. — Когда убили моего командира, лейтенанта Кларка, сражение уже кончилось.
Больше Перл не могла сдерживаться. Заплакав навзрыд, она шла, держась за повод генеральской маленькой лошадки, и слезы бежали у нее по лицу. Через весь город Перл довела генерала с его штабом до кладбища, где и показала им свежую могилу.
Шерман ходил в грубой солдатской одежде и делил все тяготы с простыми солдатами. Спал в парусиновой палатке, когда спал вообще. Его сопровождал единственный денщик, и лошадь в его распоряжении была всего одна-единственная, да и та — кляча, едва ли подходящая начальнику такого масштаба. С его стороны это было очень правильно: приходилось отдавать приказы армии, в которой не хватало всего самого необходимого, и делать это мог только человек, способный служить примером. Однако Моррисону, выпускнику Вест-Пойнта, служившему у него в штабе, вся эта простота казалась несколько наигранной. Моррисон не находил разумной причины, почему генерал — да не какой-нибудь политический назначенец, а профессионал, тоже выпускник военной академии в Вест-Пойнте, каким был Шерман, — не должен чем-то отличаться от своих подчиненных. Элегантность одежды и некоторая недоступность командующего, глядишь, и всей армии придала бы кое-какой дополнительный лоск! Люди сражаются, воюют — правильно, они доказали, что не даром хлеб едят! — но жесткое соблюдение субординации внушает подчиненным уважение, которое только возрастет, если ты не пренебрегаешь привилегиями, положенными по чину и должности. Уважение, а вовсе не любовь есть источник власти командира — уважение надежнее, да и долговечнее намного: в передрягах долгого рейда по тылам противника любовь-то и повыветриться может!
Кроме всего прочего, Моррисон чувствовал себя униженным. Лояльный адъютант, он выполнял работу офицера связи безупречно, ни одним движением лица не выдавая никаких чувств, кроме бесконечной преданности делу. Но он любил комфорт и не гнушался привилегий. Шерман специальным приказом запретил офицерам штаба пользоваться палатками на жесткой раме и лошадьми в количестве большем, чем две на человека. Из-за этого Моррисон вынужден был обходиться без удобств, без книг и без собственного повара. Как это так — из всей прислуги один денщик! Нет, он не жаловался, конечно, но все же иногда его задевало, что генерал, похоже, получает извращенное удовольствие, подвергая других тяготам, которые ему самому только в радость, но должен же он понимать, что с другими-то не всегда так!
Крепкий, краснолицый, рано начавший лысеть молодой офицер, при кажущейся солдатской дубоватости Моррисон был хорошим знатоком природы человека, и своей прежде всего. Он сознавал, что его приверженность к роскоши в полевых условиях есть слабость, а то и признак недостаточной мужественности, уверенности в собственной значимости в этом мире. И действительно, ему проще было держаться в тени, так как он считал, что Шерман не испытывает к нему расположения, а только терпит. Слишком уж они разные люди. О себе Моррисон твердо знал, что никогда бы не дошел до такого цинизма, чтобы по-свойски, запанибрата разговаривать с нижними чинами на марше, в то же время не испытывая никаких эмоций, когда две с половиной тысячи солдат вдруг погибнут, как, например, в битве при горе Кеннесо. Тогдашнюю реакцию генерала он наблюдал. Мимолетная досада (эх, не вышло!) и сразу увлечение новой стратегической задумкой.