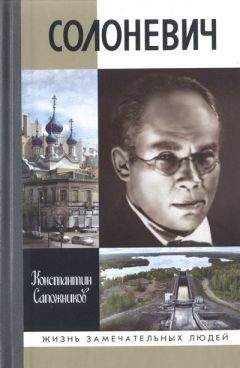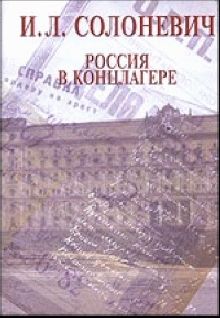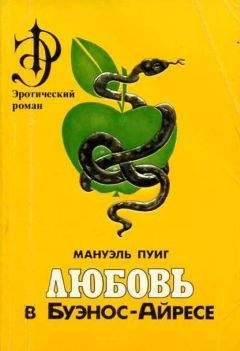— Нет, Миша, — поднялся Уборевич. — Рада бы, как говорят, душа в рай, в небо, да дела не пускают. Мне в Наркомтяжпром к Фельдману идти нужно, о деталях танков договориться. Это для тебя роль — фигурировать и выдвигаться. Я лучше свое делать буду… А знаешь, между прочим, что я о винтовке Дегтярева думаю?
Тухачевский поднял голову от стола, за которым писал.
— Ну?
— Да вот. недолго будут служить нам эти винтовки. Скоро их придется в архив сдать.
— Это почему? — удивленно спросил маршал.
— Видишь ли, Миша. Новая техника и тактика скоро иные задачи «царице полей» — пехоте дадут… Основную огневую работу тяжелые виды оружия делать будут. А пехота налегке будет. Ей дальше, чем метров на сто, и стрелять-то не придется. С ручными пулеметами закрепляться будут.
— Ну, ты — известный фантазер, — улыбнулся Тухачевский. — А впрочем, — задумчиво протянул он, — может быть, ты и прав, как прав и Дегтярев насчет штыков, — все в архив сдадим.
Потом он тряхнул головой.
— Ладно, дружище! Так ты не забудь моих слов насчет армии. Присматривай среди своих командиров толковых ребят, которые… которые, словом, понимают. Стычка с Ягодой, боюсь, неизбежна и на армию попробуют накинуть петлю. Я тогда на дыбы стану: не за себя, за армию. Поддержи меня тогда!
— Понятно, — еще раз просто повторил Уборевич. — Прицел, Миша, у нас большой, русский. Как это где-то писалось:
«Блажен, кто свой челнок привяжет К корме большого корабля…»
Наш с тобой корабль — Россия. Его-то из вида не потеряем!..
Он еще раз крепко пожал руку Тухачевскому и вышел…
Через несколько минут маршал приветствовал в своем кабинете второго заместителя наркома обороны, начальника ПУРККА Гамарника. Это был высокий, худощавый, сутулый еврей с длинной, выхоленной, темной бородой и умными, мягкими глазами. Он принес Тухачевскому на согласование новую инструкцию политработникам армии о прошедших политических процессах.
Предложив гостю коньяк и сигары, Тухачевский погрузился в чтение. Перед ним замелькали стереотипные фразы и выражения: «презренные троцкисты», «бешеные, гнусные наемники капитала», «шпионы» и прочие. Почему, собственно, старая партийная гвардия, на двадцатом году победы Октября, стала вдруг «изменять» революции — в инструкции объяснено не было. Да и действительно, как можно было объяснить расстрел людей, связавших свои имена с «Алой принцессой-революцией» еще во времена императоров; людей, прошедших годы тюрем, каторги, ссылок, работавших вместе с Лениным в критические времена 1917-18 годов и теперь «вдруг» оказавшихся предателями… Тонко улыбнувшись, Тухачевский поставил свои инициалы на проекте инструкции. По принятому порядку, все заместители Ворошилова заранее согласовывают между собой все важнейшие приказы и инструкции.
— Н-д-а-а-а, — протянул он, наконец, поднимая голову. — Трудную задачу даешь ты своим политработникам, Ян Борисович. Сочувствую им…
По старой партийной традиции, все коммунисты были друг с другом на «ты». Старые боевые товарищи обычно называли друг друга по именам и даже прозвищам, и лишь в официальные минуты переходили на более формальный тон — обращение по фамилиям или чинам.
Гамарник, смакуя старый ароматный коньяк, тоже усмехнулся.
— Ну, а что же делать, Михаил. Николаевич? Надо же изворачиваться? Расстрелянных с того света не вернешь, а в умы красноармейцев вносить путаницу никак не годится. Я всегда был против таких скандальных процессов, но Политбюро…
Тухачевский хмыкнул.
— А ты прикинь по памяти, кто из первого состава Политбюро, ленинского Политбюро, остался в живых?
Гамарник наморщил лоб, вспоминая имена. Ленин умер. Троцкий выслан за границу. Томский застрелился. Рыков умер в ссылке. Бухарин, Зиновьев, Каменев расстреляны, как «предатели»… Тухачевский внимательно следил за морщинами на высоком чистом лбу Гамарника и когда те дрогнули в удивлении, подсказал своему собеседнику:
— Сталин?
Гамарник несколько растерянно поставил рюмку на поднос.
— Да, выходит так… Действительно, один Сталин.
— Арифметика, что и говорить, несложная. Объяснение гораздо сложнее. Но я не хочу вдаваться в вопрос, насколько полезны или вредны для страны такие процессы. Это дело Политбюро. Но в отношении нашей армии, — а ведь мы поставлены руководить ею и охранять ее, — мне давно уже хотелось с тобой поговорить. Ты хотя не профессионал-военный, но, конечно, понимаешь, что армия совершенно особый организм. В ней авторитет и доверие к командиру — первый залог боевого успеха. Что станется с этим доверием, спайкой, авторитетом, если, скажем, и в нашей Красной армии начнутся такие же политические процессы с расстрелами и клеймением предателей и шпионов. Это старая истина, что дух армии — функция, производное от духа всего народа. Если население страны поражено и недоумевает — это уже не может не отразиться на армии. Помнишь знаменитое «головокружение от успехов» во время коллективизации? Сколько волнений и даже бунтов прошло в армии! Хорошо еще, что наши внешние враги не были готовы к удару… А что, если такой период духовной слабости повторится? Что, если такая волна зальет Красную армию теперь? Ведь наше внешнее положение теперь много сложнее и опаснее, и сейчас такая духовная слабость армии может оказаться роковой. Мы, брат, с тобой призваны к командованию, — медленно продолжал маршал, глядя пристально на начальника ПУР. — Нам доверено строительство обороны. Как отнестись нам к таким процессам, если Ягода захочет устроить их у нас, в нашей среде? Как нам реагировать в этом случае?
Тухачевский замолк и налил еще по рюмке коньяку своему гостю и себе.
— Ты чувствуешь, Ян Борисович, всю сложность вопроса? Кое-какие аресты среди высшего комсостава уже были. Недавно НКВД арестовал в Киеве командира танкового корпуса Шмидта и начальников танковых управлений киевского и московского округов — Халепского и Никитина. Дело еще в следствии, но я категорически буду возражать против гласного процесса. Если Ягода имеет обвинительный материал, пусть предъявит его в Реввоенсовет. Он обязан это сделать. Но трепать имена наших высших командиров в процессе и на суде мы не должны позволить. Ты согласен с этим?
Вопрос был поставлен ясно и прямо. Прежде чем ответить, Гамарник долго думал, не поднимая глаз.
— Трудно ответить точно, Михаил Николаевич, — промямлил он нерешительно. — Это зависит от того, какие обвинения…
— Вот как раз от этого нисколько и не зависит! — твердо прервал его Тухачевский. — Чем сильнее и даже позорнее обвинение, тем больше усилий мы обязаны сделать, чтобы это дело не появлялось на поверхности, не. привлекло бы внимания армии. Обнаружить и наказать виновных — право Ягоды. А наше право — потребовать, чтобы ничто не колебало единства армии и ее веры в своих командиров. Посеять сомнение и неуверенность легко, но жатва может быть страшная… Мне тебе не нужно говорить о том, как близко мы стоим от войны… И война будет никак не пустяковая: не восточно-китайский инцидент и не Эстония с Латвией. Перед нами Германия и, возможно, что даже в союзе с Польшей. Ты, как еврей, сам знаешь, как и чем накаляет Гитлер немцев против СССР. И нам надо наш душевный порох держать сухим… А что будет, если Ягода станет хозяйничать среди нашего комсостава, да еще со своими декоративными показательными процессами?
Упоминание о Гитлере подействовало. Гамарник понял, что Красная армия защищает его не только как начальника ПУР, но и просто, как еврея, и что слабость Красной армии — это, прежде всего, опасность для его собственной шкуры.
— Да-а-а, — в раздумьи проговорил он. — Пожалуй, я с тобой согласен. Командиры армии не должны фигурировать на судах в качестве обвиняемых.
— Ну, конечно. Знаешь, построить 1 000 самолетов куда легче, чем подготовить 1 000 хороших командиров. Наш Осоавиахим готовит нам теперь в год по полмиллиона военнообученной молодежи. ВУЗ'ы дают до 20 000 готовых командиров, наш военный бюджет за третью пятилетку возрос с 60 до 118 миллиардов рублей, техника и моторизация уже превосходят все европейские армии, твой ПУР блестяще поставил обработку душ наших красноармейцев… Наша военная машина налажена и представляет собой грозную и готовую к удару и к обороне силу. Так неужели мы, отдавшие столько сил на подготовку нашей армии, позволим штатскому Ягоде подрывать ее мощь? Ты вот сейчас пишешь инструкцию относительно политических процессов штатских людей. А как ты будешь извиваться, чтобы объяснить расстрел высших командиров? По-моему, трепать известные всей армии и всей стране военные имена — преступление перед партией и страной.
Несколько минут Тухачевский молчал. Брови его были сурово нахмурены и пальцы крепко сжимали трубку.