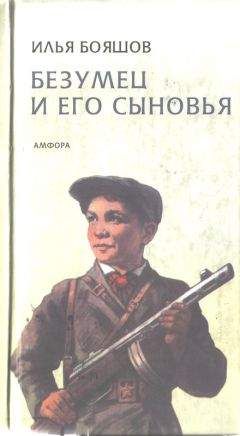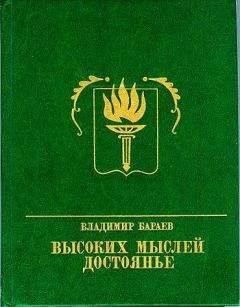- Дается мне, подменили задиристого Бычка. Виданное дело — сам уступил мне дорогу! Это теперь не тот задира! Камень свалился на него что ли? Держит себя так, словно повстречался с самой Хель, и та его здорово вразумила — слова теперь от него не добьешься. А уж от хамства не осталось и следа.
Будучи наблюдательным, Гримвольв также заметил:
- В глазах его — тоска и беспокойство. Сильно он над чем–то задумался. Уж не раскаивается ли в том, что выбил глаз Хескульду и Асмунда помял изрядно?
И правда, Рюрик с той поры взялся о чем–то думать — и это встревожило Астрид не меньше, чем прежняя его беззаботность. Люди ей говорили, что часто видят ее прежде неугомонного сына сидящим на валуне возле фьорда. Иногда же он приходил во внезапную ярость и выворачивал, и бросал в воду камни, да с такой силой, что они пробивали прибрежный лед. Но и нельзя было утверждать, что он повредился в рассудке: когда к нему обращались, отвечал хоть и неохотно, но разумно. Матери он ничего не говорил. Олаф не донимал сына расспросами, хотя и он взялся замечать, что с Рюриком что–то стряслось.
Наконец Астрид сказала мужу:
- Рюрик бросается из крайности в крайность. Что за тролль прищемил его язык, прежде такой острый? Здорово затупился язычок нашего сына, словно по всем валунам окрестных гор провели им. Где он болтался те дни — не совал ли свой нос туда, куда не следует?
Олаф ответил:
- Первый же поход выветрит из него всю дурь, если она есть. Стоит ему только завидеть вдали корабли саксов или дромунды25 купцов и услышать рев настоящей битвы.
До весны еще оставалось достаточно времени, люди ярла скучали на Лосином Мысу, и Олаф задумал большую охоту. Сказал он жене:
- Старые медвежьи шкуры изрядно поела моль. Они не дают прежнего тепла — пора их сменить. К тому же давно я не пробовал свежей оленины.
Старики его отговаривали, указывая, что снег этой зимой очень глубок и рыхл — даже самые широкие лыжи будут в нем проваливаться. Кроме того, у старых людей из окружения ярла — у Тормонда и Хоральва — ныли кости, не иначе к метелям. Однако ярл настоял на своем и отправился на охоту с многими викингами. Взял он с собой и Рюрика, чтобы сын хоть немного развеялся. Когда проходили они подножие горы Бьеорк, сильно заметелило. Дружинник ярла Магнус по прозвищу Длинный Топор, обладающий острым зрением, заметил что–то на снегу. Подошли они поближе и увидели мертвого ворона — снег еще не успел замести птицу. То был недобрый знак, и Магнус, сам человек не робкий, подняв ворона и показывая его, сказал своему ярлу:
- Нужно поворачивать обратно… Принесем жертву горе Бьеорк и выйдем через несколько дней, когда улягутся метели.
Олаф промолчал. Но Магнус настойчиво просил его вернуться, и тогда Олаф, подумав, ответил:
- Всему когда–нибудь наступает конец. Не уподобляться же конунгу Ауну, который, цепляясь за жизнь, в конце концов настолько одряхлел, что кормили его из рожка!
И еще он прибавил:
- Ничего со мной не случалось в дальних странах. Что может сделаться на родной земле?
Рюрик, который шел следом за отцом, даже не прислушался к тому разговору. Словно завороженный, глядел он на гору Бьеорк, и викинги за его спиной шептались: действительно, неладное что–то творится с сыном ярла; раньше, бывало, готов он был задеть всех и каждого и непременно вырвался бы вперед, похваляясь своей сноровкой, а сейчас то бледнеет, то краснеет — и за день услышать можно от него от силы два–три слова. Дружинник Олафа Хром сказал остальным, что не к добру такая молчаливость. И еще сказал тихо, чтобы слышали его только те товарищи, которые были рядом:
- Не Отмонд ли опоил отпрыска Олафа своим проклятым отваром, от которого прорезается особое зрение? Те, кто напился подобного зелья, видят богов и начинают разговаривать со зверями на их языке: немногие такое выдерживают! А тот, кто задумывается после всего этого, рано или поздно впадает в безумие.
Хром также вспомнил, что славный берсерк Доорд однажды напился подобного напитка, вообразил себя волком, сделался невероятно злобен и убивал всякого, кто к нему подходил, не разбирая, кто перед ним, — и рвал он при этом все веревки и канаты, которыми пытались его связать. И пришлось его убить, потому что он так и не пришел в себя.
Викинг Слейв сказал:
— Взять хотя бы того же Рунга! Был славным мастером, а сейчас знай себе насмехается над всеми. В Тронхейме поругался с самим Хальвданом. Бормочет всякие глупости. А уж какой богохульник! Не уподобился бы ему сын ярла. Характер у Рюрика, что и говорить, самый поганый, да все равно жаль, если паренек повернется рассудком. Вон как смотрит на гору! А нам неплохо бы вернуться. Магнус просто так отговаривать не станет.
Однако ярл Олаф решил не возвращаться, уверяя, что ничего не произойдет, и все послушались. И действительно, поднявшаяся было метель улеглась, и сделалось морозно и солнечно. Добыча сама шла в руки. Люди Олафа добыли множество косуль, оленей и лосей и даже нескольких волков — за собой оставили они три ямы, набитые шкурами и мясом, а Олаф все надеялся поднять медведя и твердил, что пора ему обновить медвежьи шкуры в доме. В пещерах Скьягги–перевала викинги подняли нескольких медведей — и не было равных Удачливому в медвежьей охоте; с одной секирой выступал он навстречу зверю, достаточно было одного удара — и медведь падал. Однако ярл Олаф был недоволен: попадались ему либо слишком молодые, либо старые звери. Наконец викинги Хром и Слейв разыскали пещеру, в которой обитал огромный и свирепый медведь, шкура его должна была быть очень большой, а мяса хватило бы на добрый десяток воинов, таких, к примеру, как все тот же Гисли Лежебока, которого в фьорде называли еще и Прожорливой Собакой, а все оттого, что не гнушался Гисли никакой пищей и желудок его переваривал камни. В пещеру принялись бросать зажженные ветви и пускать стрелы. Наконец послышался рев и хозяин показался. Таких медведей еще никто не встречал в здешних краях; было в нем роста на двух его сородичей, и передние лапы были у него вдвое длинней, чем у прочих мишек. Когда встал он на задние лапы, то показался настоящим троллем. Из открывшейся пасти слюна даже не сочилась, а сбегала ручьем — викинги утверждали потом, что и не медведь это вышел к ним, а превратившийся в зверя великан. Как бы там ни было, Олаф не дрогнул. Секирой по имени Великанша Битв он готовился нанести удар, да вот только одна нога его поскользнулась, сам он упал перед медведем. Тотчас храбрецы Магнус, Слейв и Хром бросились на помощь — однако прежде чем их мечи и секиры опустились на череп медведя, тот успел лапой ободрать ярлу ногу. Рана оказалась несерьезной, Олаф вскочил и смеялся над своей неловкостью. С медведя тут же содрали шкуру и, захватив с собой много мяса, спустились к лагерю.
Однако той же ночью у Олафа сделался жар — утром сам он не мог встать на лыжи. Тогда осмотрели его рану и увидели, что она загноилась, и люди Олафа очень пожалели, что Визарда и Отмонда нет с ними. Тот же Слейв раскалил на костре наконечник копья и дал своему господину выпить крепкого вина. Слейв прижег рану ярлу и сокрушался, что ничего не предпринял раньше. Огонь вроде бы сделал свое дело, и благородному стало полегче. Задержались они на два дня возле Скьягги–перевала, но когда на третий решили идти, вновь Удачливый не мог встать на лыжи, и после этого решили возвращаться и повезли его на санях. И как ни терпел он, все видели, что становится Олафу все хуже и хуже. Когда же прибыли в Бьеорк–фьорд, то жар у него сделался таким, что едва узнал он жену.
Возле ярла неотлучно с тех пор находились Астрид, Рюрик, Визард, Гендальф и старые викинги, жившие в ту зиму в доме Олафа — Тормонд и Хоральв, — а также Магнус. Все они были уверены, что гора Бьеорк наказала ярла. Магнус места себе не находил оттого, что не смог тогда уговорить Удачливого вернуться. Сам Олаф лежал спокойно. Когда он пришел в себя, то сказал:
- Что толку убегать от судьбы.
Рана его совсем уже загноилась. Как Отмонд ни смазывал ее всякими мазями, как ни колдовал, ничего не помогало. Принесли тогда остро наточенную секиру, и отняли ярлу ногу ниже колена, и прижгли рану. Однако и это не спасло. Олаф пришел в себя лишь для того, чтобы попрощаться с Бьеорк–фьордом. Он был спокоен, как и полагается настоящему викингу. Когда всем стало ясно, что Хель забирает Удачливого, жар оставил Олафа. У него открылся дар предвидения. Вот что он сказал сыну:
- Рагнарёк уже недалек! Вскоре вся страна зальется кровью, ибо не даст никому покоя сын Хальвдана. Поистине жена конунга Рагихильда родила волчонка. Харальд не успокоится, пока не устелет Норвегию, точно ковром, отрубленными головами истинно свободных. Уже слышу я, как лает Гарм, — видно, недолго осталось сидеть псу на привязи.
И еще сказал он Рюрику:
- Кто как не свободный из рода Сигурда должен быть правителем у норвегов, раз уж так дело пошло? Только в последнее время стал ты чересчур задумчив, и кажется мне, это не к добру. Вот что запомни: остаются тебе мои рабы, сделанные из глины. Всегда трепетали они и повиновались мне. И были сгорблены их спины. Чего они боялись? Одного — силы моего меча! Вот и свободнорожденные бонды, а также работники. Трепетали и они от одного только моего имени, и уважали меня, и мне повиновались. Что их держало в повиновении? Только меч. Вот и воины — эти уж свободные из свободных. Их не испугать и не остановить, если они захотят уйти. Угадай–ка, что и их тогда заставляло садиться на весла моих кораблей?