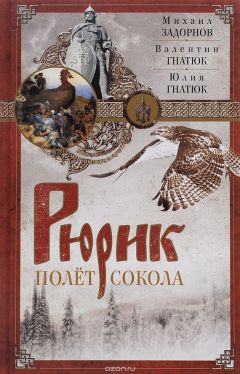Звенислав, тронутый доверием князя и сердечными его словами, хотел ответить, что, пока род его живёт на свете божьем, будет под постоянной заботой могила жены и сына Святослава, но горький ком, подкативший к горлу, не дал словам вырваться наружу.
Стоя у широко распахнутых ворот Ратного Стана, некогда самый отчаянный и удачливый темник Киевской дружины, а ныне помощник княжеского конюшенного второй руки Блуд глядел, как уходит из града лихая конница. Уходит на войну без него! Непробиваемый ком залёг внутри. Боль и ярость, обида и тоска – всё собралось в этом горячечном сгустке, терзало душу и рвало её на части. Стократ досаднее было оттого, что предводительствует конницей давний недруг воевода Свенельд. Слово своё княжеское Святослав сдержал-таки, когда перед всеми темниками в гневе выкрикнул, что станет Блуд простым конюхом в Киеве, коли посягнёт на часть воинской добычи. Перед затуманенным взором одна за другой мелькали картины прошлого. Как раз воевода Свенельд, облачённый в дорогую византийскую броню, на чудном вороном коне, был тем первым воем, стать вровень с которым возомнил себе жалкий сирота, маленький лиходей, приведённый в Ратный Стан железной десницей кузнеца Молотило. Он не просто грезил о том, нет, он трудился так, что иногда полуживым едва добирался до жёсткого воинского ложа. Блуд не жалел ни себя, ни других, потому как только упорным трудом и быстротой мысли он мог достичь желаемого, а без этого жизнь не стоила ничего, лепше сгинуть от рвущего жилы напряжения в воинской учёбе или в лихой схватке. И он достиг своего, свершилось невиданное: из простого воина враз стал темником! Да не просто темником, а любимцем самого князя, который души в нём не чаял, потому как более всего уважал людей беспримерной храбрости. Всё так и было, он шёл в гору и уже мыслил тайно, как бы отодвинуть от князя основательного, не любящего пустого риска Свена. На Булгарской войне он даже подослал в окружение воеводы своего человека, который слушал все речи Свенельда и передавал их Блуду. Но опытный и осторожный воевода, видно, почуял опасность, исходящую от молодого темника, и… «Да что говорить, – горько сознался сам себе Блуд, – переклюкал меня старый лис, сумел очернить перед Святославом. А теперь в Дунайском походе хитрый Свен сколько приберёт к рукам!» Блуду вспомнилась та обида, когда он в тяжком бою одолел челматского князя, как победно воздел он главу поверженного и как просили враги отдать голову повелителя своего за золото, сколько та голова потянет. А князь обидел его горько, повелев отдать голову просто так, за то, что добре бился челматский князь! Щедрость Святослав свою показал, только почему за его, Блуда, счёт, почему из добычи воинской не дал за ту голову злато? «А как я своё сам взял, так сразу в немилости оказался! Скот, мол, продал, а как сам Свенельд за счёт уличей да тиверцев, с которых дань для казны княжеской сбирает, себе мошну набивает? Ох, и ловко пристроился, никто ведь не проверит! А на меня князя науськал, заставил деньги вернуть местным жителям, да ещё и в казну заплатить! Да не то важно, обидней всего, что князь мне доверять перестал. Да тут ещё Тайная стража свою ложку дёгтя добавляет! Они, как пить дать, они, донесли князю про то, как я пленников из той Булгарской войны знакомым купцам выгодно пристроил. Этот Ворон в старой простой кольчужке, да помешанный на писании на бересту и кожу Варяжко. Им-то, как и волхвам, ничего в этой жизни не надобно – ни денег, ни власти. Из-за них я дома нового и части богатств лишился и из темников лучших в помощники конюшенного попал!»
Помощник княжеского конюшенного второй руки то и дело поскрипывал сжатыми зубами да посылал горькие проклятья своим недругам, всё более убеждая себя в собственной правоте.
От воспоминаний или оттого, что в мыслях он всем «перемыл кости», боль помалу стала утихать. «Что ж, – успокаивал себя Блуд, – и Свен тоже у князя в опале был, да снова поднялся, неужто я глупее его или менее изворотлив, это мы ещё поглядим! Я моложе, у меня запаса времени больше, поглядим, старый лис, чья сверху будет!»
А бывший старший конюший с сыном возвращались домой. На новом подворье возник ещё больший переполох, чем когда они уезжали в Киев, большой переполох да большие слёзы. Такова женская суть: и от горя плакать, и от радости. Беляна как упала на широкую грудь Младобора, как зашлась рыданием, так и не могла никак остановиться.
– Видно, дошли мои мольбы до грозного Перуна, – тихо шептала меж рыданиями да всхлипами Беляна, – одного ведь он у меня уже забрал в своё войско небесное, зачем же и второго, не пережить мне того, не пережить!
Совсем растерянный, но счастливо сияющий Младобор нежно обнимал плачущую Беляну и не мог вымолвить ни слова. Всегда глядел он прежде на жену брата с плохо скрываемым очарованием и восторгом, как на диво дивное, как на богиню во плоти. А вот как провожала она его, да как обожгла поцелуем, так и не стало ему покоя – что б ни делал, всё о Беляне думал. Теперь же в слезах радости и горячем объятии вовсе растаяла чувствительная душа Младобора, и не понимал он, на каком оказался свете: в небесном ли Ирин или на земле. Не видел, как увёл отец плачущую от счастья мать, как старший из резчиков что-то тихо сказал напарнику, и тот завлёк Ярослава и Цветену, увёл их подальше к раскидистой груше, где стал ловко резать острым ножом забавные фигурки чудных зверей, а дети пытались за ним повторить.
Когда чуть пришёл в себя от нежданного счастья молодой огнищанин, то увидел, что нет вокруг никого, только он с чуть всхлипывающей на груди Беляной. Несмотря на проделанный по жаре путь из Киева, ему не хотелось ни пить, ни есть, а только чтобы рядом вот так, как сейчас, прильнув к нему гибкой ивушкой, всегда находилась Самая Прекрасная на всём белом свете и сквозь грубое полотно рубахи слышался стук родного сердечка. Потом повернулись они и, не сговариваясь, пошли неспешно, будто поплыли прочь с подворья. Молча прошли, держась за руки, до поросшего осокой пруда и сели на корявом пне, прижавшись друг к другу и глядя на солнце, заходящее за верхушки дерев Берестянской пущи.
– Белянушка, – нежно прошептал Младобор, как будто боялся вспугнуть севшего на цветок мотылька, – я ведь всегда любил и втайне любовался тобой, только очень боялся, а вдруг догадается кто, ты же брата моего жена…
– Тише, – женская рука нежно коснулась губ молодца, заставив смолкнуть, – знаю всё, женщина ведь не только очами, она кожей, а более всего сердцем чувствует, а от этого виденья ничего не скроешь, молчи! Я всё по Вышеславу убивалась, а как собрались вы с отцом на войну Дунайскую, будто пелена с глаз, а может, с сердца упала. – Она замолчала, не то вспоминая, не то собираясь с силами. – Уразумела я враз, что и ты можешь из того дальнего похода не вернуться, и не будет никогда более рядом твоих лучистых очей… – Она снова примолкла. – От Вышеслава детки хоть остались, а от тебя ничего, совсем ничего!
Через седмицу, когда мастера закончили свою работу и новый дом Лемешей засиял свежей резьбой: конями, солнышками, знаками Рода, Макоши, Даждьбога и другими обязательными для доброй жизни оберегами, сыграли Лемеши свадьбу. Не особо пышную, хотя был у них достаток, а потому что была уже у Беляны когда-то свадьба с Вышеславом, и детки – одиннадцатилетний Ярослав и девятилетняя Цветена – вон уже какие взрослые. Да ведь никакая свадьба людей не соединит, коли души не сроднились. А эти друг на дружку и наглядеться не могли.
Летит-стелется лихая киевская конница. Вошла в древлянскую землю. В Овруче – новой столице, возведённой вместо Искоростеня, разрушенного Ольгой, Свенельд борзо собрал Древлянский полк, и дружина повернула к полудню.
А через седмицу дошла до Днестра.
Свенельд направил Боскида с тьмой вверх по реке на соединение с уграми, сам же переправился на другую сторону.
Пройдя Днестровский Пересечень, конница взяла направление на Болград.
Здесь Свенельд поставил впереди войска уличей и тиверцев, хорошо знавших Белохорватскую и Дакийскую земли, и так они потекли дальше к полудню.
Земли Подунавья когда-то принадлежали дакам, которые с давних времён сражались вместе со скифами против Римской империи и её восточной части – Византии. Но хитрые ромы и ромеи, где лестью, где посулами и прямым подкупом, переманивали даков к себе на службу. А потом римский император Марк Траян Ульпий захватил земли даков силой. И даки стали охранять Волошину, то есть территорию Восточного Подунавья, подчинённую Риму и платившую ему дань, теперь уже от «варваров»: готов, гуннов, славян, варягов, обров, угров и прочих народов, угрожавших Римской империи с северо-востока.
Давно уже нет Великого Рима, его «растворила» в себе более хитрая греческая Византия. Не стало и воинственных даков. Их потомки охристианились и смешались с прочим населением Волошины, а теперь и Болгарии. Осталось только название – Дакийская земля, Дячина, как благодарность-подяка Богу в те времена, когда её жители – даки, геты, фракийцы – одерживали великие победы и владычили на землях от самой Карпат-горы до Дуная, от Дуная до Марицы и далее к полудню, охватывая те угодья, где теперь стоит византийский Константинополь.