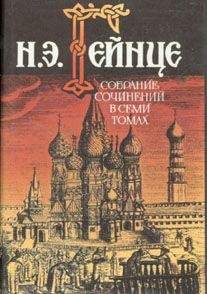— Ну, теперь моя очередь заснуть, — сказал первый и прилег на свой охабень.
— Старуха, покорми чем-нибудь наших холопей. Кстати, вот тебе за все тепло и добро твое, — продолжал он, выкидывая на стол серебряную резань,25 а Захарий, сверх того, отложил несколько литовских грошей.26
— Это тебе, Сидоровна, за хлопоты и услуги.
— Спасибо, господа милостивые, — сказали хозяева, низко кланяясь им.
— Вот эта наша, светленькая-то, — прибавил Савелий, перевертывая резань и любуясь ею, — а эти медяшки-то Бог весть какие; те же пула, да не те, на них и грамотей не разберет всех каракулек. А что, боярин, — продолжал он, обратясь к Захарию, — должно быть, издалека эти кружки?
— Нужды нет, что отсюда не видать, где их круглят, однако тебе за них и в Москве насыплят добрый оков27 хлеба.
— Я не сумлеваюсь, боярин; всякая деньга становится всем притоманна, — отвечал Савелий.
— Ну-ка, старина, что-то сон не берет, — порасскажи-ка нам теперь о дворе вашего великого князя, — сказал Захарий. — О прошлых делах не так любопытно слушать, как о тех, с которыми время идет рядышком. Ты же о чем-то давича заговорил, будто иную весть не проглотишь. Небось, говори смело, мы верные слуги московского князя, у нас ведь добро не в горле останавливается, а в памяти: оно дымом не рассеется и глаз не закоптит.
— Я, боярин, опять-таки молвлю: мои вести короче бабьего разума, сами будете в Москве, все разузнаете и диву дадитесь, как она красится, как добры и сильны стали детки ее и как остры мечи их. Вот хоть бы взять, к примеру, мурзы татарские, эти казанцы-поганцы, с своим псом-царем Ибрагимом; уж не они теперь на нас, а мы на них; наши дружины протопали дорожку даже к самому гнезду этих неверцев… Да вот только привел бы Господь батюшка нашему великому князю сбить остатную спесь с чопорных новгородцев, он бы их ошеломил, как намедни этих.
— Да знаешь ли ты, косноязычник, что погубило новгородцев? — воскликнул взволнованно Назарий и даже привскочил с лавки, на которой лежал. — Если бы не измена Упадыша28 с его единомышленниками, брызнул бы на московитян такой огненный дождь, что сразу спалил бы их, а гордыня стены Новгорода окрасилась бы кровью новых врагов и еще краше заалела бы. Так-то, седая борода, — добавил он, несколько успокоенный, изумленному Савелию, — что не знаешь, о том и не болтай.
— Вот то-то, боярин, сами вы напросились на нелюбое слово. Я говорил, что на всякого не приберешь нравную весть. Однако за что же ты застеняешь крамольников, — они кругом виноваты, в них, видно, и кровинки русской нет, а то бы они не променяли своих на чужих, не стали бы якшаться да совет держать с иноверною Литвою! Мы холопы, а тоже кое-что смекаем; я не один, вся Москва знает, о чем теперь помышляет князь наш.
Назарий задумался и, видимо, не найдясь, что ответить ему, глубоко вздохнул и опустил голову на шапку, заменявшую ему подушку, и закрыл глаза. Захарий же с ударением заметил:
— Полно гуторить-то, мы точнее тебя ведаем, какие мысли ворошатся теперь в голове вашего любовластного князя.
Савелий пристально посмотрел на него и, как бы сообразив что-то, схватил себя за голову и поспешно выбежал из светлицы. Агафья же, кормившая холопов, отвечала ему вместо мужа:
— Вестимо, боярин, но мы-таки понаведались кой-чего, а когда бояре наши были во времени,29 то тогда мы и более знавали.
— Кстати, Сидоровна, за что же опала-то опалила крылышки твоим боярам? Кто они таковы и где находятся теперь? — спросил Захарий.
— Долга будет песня про все, боярин! — отвечала она. — Вот дождь-то, кажись, унялся, небо прояснилось и светать скоро начнет, вам будет в путь пора, а нам на покой.
— Да, что-то сон давеча у меня как рукой сняло; порасскажи теперь что-нибудь ты.
— Ну, коли изволишь слушать, да это тебе в угоду — так пожалуй! Боярин наш прозывается Алексеем Полуевктовичем, он был в чести у великого князя, а жена его, боярыня Наталья Никоновна, у великой княгини Марьи Михайловны30 — первой любимицей. В свадьбу великокняжескую она осыпала жениха и невесту хмелем из золотой мисы, да опахивала тридесятью дорогими соболями. И жили-поживали наши бояре при дворе в высоких теремах чинно и раздольно и едали с княжеских блюд сладко и разносольно. Поднимется ли, бывало, князь великий в поход, и боярин с ним, охраняет его особу, а боярыня останется потешать сиротиночку княгиню великую, — и много годов прошло таким чередом. Вдруг с Марьей Михайловной что-то подеялось, не соснет ни на миг, не промолвит словечка, не проглотит кусочка, — уж чем ни забавлял ее великий князь: заставлял слепого гудочника играть подле постели ее на гудке и веселые песни, и умильные песни, ластил ее и медом золотым, шипучим, и всякими закусками и гостинцами сладкими, ничем не угодишь. Знахари думали-передумали, судили, рядили и сказали в один голос, что она испорчена злыми снадобьями. На кого подумать? Стали спрашивать у всех сенных и сановитых прислужниц ее строго, и показали все, что видели, как боярыня наша Наталья Никоновна ходила с поясом великой княгини к ворожее и что будто эта ворожея и привила ей недуг лютый. Отворили храмы святые, подняли образа чудотворные, служители Божии преклонили колена и начали упрашивать силы небесные о здоровье матушки нашей великой княгини, но знать Богу не угодно было ниспослать ей милостей Своих — тело ее почернело, как вороново крыло, и отекло так, что и рассказать невозможно. Недолго маялась она, сердечная, и отошла тихо, как заснула. Только что ударили в колокола о выносе тела ее, Наталью Никоновну как ножом по сердцу урезнуло, забегала она по гридням своим и занесла такую гиль, что Господи упаси всякого было слушать ее. Видно, убоясь праведного гнева великокняжеского, вдруг пропала она, да так скрытно, что сам Алексей Полуевктович не мог придумать, куда бы ей деться? Вот он и переселился из Москвы сюда, в родовой свой терем, удалил всех своих закупных рабов, только мы с Тихонычем остались служить ему. И жил он здесь ни много ни мало, шесть годов с половиною, и потребовал его князь опять перед лицо свое, повелел ему занять прежнее его место окольничьего. С тех пор запустел наш терем. Одни мы домыкиваем жизнь свою в нем, а о боярыне ни слуху ни духу, как ключ ко дну сгинула. Дивились мы, что за притча такая: за что бы ей посягнуть на государыню, и где она положила головушку свою, в чьей земле улеглись косточки ее? И жутко, страх жутко случается нам, как на той половине терема кто-то по ночам словно в набат бьет, особливо в темную ночь, как зашелестит дождик проливной, за завоют ветры бурливые…
— Жена, баба, дура, хозяйка! — тревожно позвал Агафью, приотворивши дверь в светлицу, Савелий и перервал этим ее рассказ.
— Что ты, одурелая, распрыгалась языком-то? — говорил он, когда она вышла к нему в сени. — Знаешь ли что это соглядатаи, враги наши, которые нарочно выведывают от тебя всякую всячину. Дойдет до ярыжек, так не отмолиться ничем.
— А по мне, прах их побери! — отвечала Агафья. — Мне почто знать, кто они такие? Ну что ж? Я говорила, да не проговорилась. Уж нелегкое дело, будто не смыслю с твое-то, ты и сам давича…
— Нет, смертью искупим славу! Родились вольными и умрем такими же! — воскликнул так громко Назарий, что Агафья с Савелием вздрогнули.
— Он бредит! — произнес тихо Захарий, наклонясь над своим сонным товарищем.
Затем он улегся снова на свою лавку.
На цыпочках прокрался Савелий в светлицу и стал выманивать шепотом холопов идти спать в клеть, но они улеглись у порога. Тогда он указал Сидоровне на печь, задул светец, перекрестил издали своих постояльцев и, взобравшись на полати, еще долго прислушивался в окружавшую его тишину, прерываемую лишь храпом спящих, да бессвязным бредом Назария о свободе.
Было раннее утро 29 августа 1477 года.
Из сумрачного леса на большую тверскую дорогу медленно выезжали четыре вершника,31 в которых нетрудно было узнать путников, ночевавших в лесном тереме.
Назарий сидел пасмурно, так низко поникнув головой, что залом его шапки, висевшей наперед, нередко касался гривы бодро выступавшего коня. Захарий же сгорбился и посвистывал, переваливаясь то в ту, то в другую сторону, мотая ногами и сидя, как туго набитый мешок, на маленькой лошаденке, неохотно трусившей под ним. Холопы ехали сзади и с глупым любопытством осматривали окрестности, видимо, для них совершенно незнакомые.
— Вот и часовня! Должно быть отсюда московский рубеж начинается! — сказал Захарий.
Товарищ его поднял голову, как бы пробужденный, поспешно скинул шапку, перекрестился и снова погрузился в свои думы.
— Что ты, ошалел, земляк, али от Москвы-то тебя огнем обдает? Вымолви словечко, оправь шапку, будь молодцом! Смотри, какое утро, солнышко играет так ярко и весело…