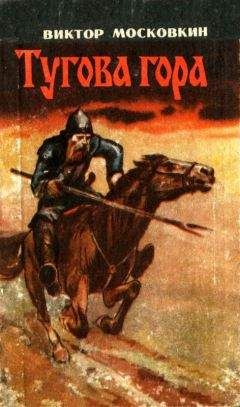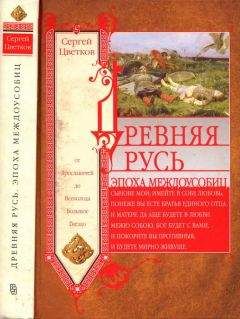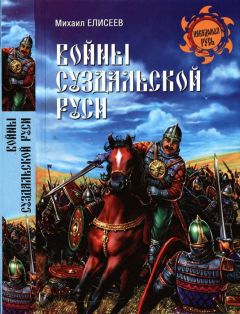— Корзины!.. Го! Говори, куда уехал?
«Растерзай меня, убей — буду я тебе говорить, жди», — подумал Филька. Вслух сказал:
— Гляди, пожалуюсь тятьке, он те голову-то оторвет вместе с камилавкой поганой.
— Ах ты! — взъярился монах. Но вдруг успокоился, даже ухмыльнулся. — И без тебя знаю, куда поехал. Пошлем вдогонку, тут будет, на аркане притащим.
Косолапо пошел в кузню. В глазах злоба.
«Неужели прознал монах, куда тятька уехал?» — Вот теперь Фильке стало боязно.
В кузне ничего интересного для себя Мина не нашел. Сказал что-то татарам на их языке. Те спрыгнули с коней и ринулись в избу. Полетели оттуда в дверь старые шубейки, дерюги, на которых спали, деревянные ведра.
Дементий с Филькой — бобыли, добра не копили, жили безбедно — и ладно.
Вдруг раздался восторженный вой: татарин, раскорячась, тащил из подклета бочонок со ставленым медом. Этого Филька уж никак не мог стерпеть.
— Лихоимцы! Последнее тащите!
Мина оттолкнул его, спросил татар: всё ли они обыскали. Те зло оскалились, залопотали по-своему — видно, ждали большей добычи в избе кузнеца.
Монах полез на свою вислозадую лошадь, указал на Фильку:
— Десятый отрок!
Филька не успел что-либо понять, как волосяной аркан захлестнул шею. Рванулся в сторону, петля сдавила горло, помутнело в глазах, Монах стегнул его плеткой, зло обронил:
— Не рвись, поганец!
— Сам поганец! — полузадушенно прохрипел Филька.
По всем улицам в Ахматову слободу конные татары тащили на арканах пленников.
Через ворота Фильку вогнали в большой двор, со всех сторон огороженный высокими бревнами, заостренными сверху. Татарин сиял аркан и сильно толкнул в спину. Отрок влетел в какую-то загородку, с размаху пробороздил носом по черной, истоптанной земле. Густо пахло конским навозом. Понял, что бросили его в загон для лошадей, Филька испуганно приподнял голову: татарские кони злые, затопчут… Но коней не было. Сидели и лежали на голой земле люди, были и женщины с малыми ребятами.
Старик с темным морщинистым лицом и сивой редкой бородкой подошел к нему, помог подняться. Отер подолом своей рубахи лицо Фильке, сказал:
— Пойдем-ка со мной, внучек.
Повел его в угол? к забору. Там лежал человек с опухшим, окровавленным лицом, в рваной рубахе. По буйным волосам Филька признал в нем лохматого дядьку, который вчера на княжеском дворе спрашивал, посмеиваясь: «Куда прешь?» — «Ох, ты! Как его… Не до смеха теперь ему».
Какая-то тетка отирала тряпицей запекшуюся кровь с лица лохматого, Увидев Фильку, которого старик усадил рядом к забору, она вздохнула сочувственно:
— Горькая твоя головушка. Как же тебя угораздило попасть сюда? Сердце у них волчье — ребенка… — Покачала головой, жалея, потом повернулась к старику. — Давай твои травы, авось полегчает.
— Сейчас, Авдотьюшка, сейчас, — заторопился старик, доставая из-за пояса портов кожаный мешочек с растертыми в порошок травами. — Вот присыпли, сразу подсохнет.
Когда боль на шее от аркана и непонятная, злая обида начали утихать, Филька спросил старика:
— Дедуня, что такое — десятый отрок!
— Эх, любый, — стал объяснять старик, — по ордынскому уставу ты стал десятым пленником. Налетели басурмане, переписывают кажный двор, людей поголовно. Берут десятую часть всего. Вот хоть ты, что с тебя взять, — мал ты, а дань плати. Нет рухляди — людей берут. Вот ты и оказался десятым отроком.
Филька понял смутно — мудрено объяснил дед, — но допытываться не стал.
— Жадность их неодолимая заставляет хватать людей, — вмешалась тетка Авдотья. — Хватают, продают купцам. Нет горше — попасть в неволю к поганым.
Только тут Филька начал осознавать весь ужас своего положения. Как подумал, что ждет его, — бросило в холодный пот: не свободным работником купца, как мечтал вчера, попадет он на чужую сторонушку — с колодкой на шее поведут его по пыльным дорогам. Никогда не видеть больше тятьки Дементия, кузни на крутом берегу Которосли. Сжалось сердце: нелегко, оказывается, расставаться с родным, привычным. Никак не укладывалось в голове, что все так будет, — все существо противилось неизбежному. Сказал упрямо — не кому-то, для себя:
— А я убегу. Вон тятька в ордынском полоне был — убёг. И я убегу.
— Верно, парень. — Лохматый дядька разлепил опухшие губы, лицо скривилось: то ли боль проняла, то ли попытался улыбнуться. — Верно загадал, рабом быть — куда уж… непривычны мы…
— Очнулся! — ахнула тетка Авдотья. — Вот и ладно.
Старик, вытирая слезящиеся глаза, пробормотал:
— Дай-то бог, дай-то бог…
И неизвестно, к чему сказаны были эти слова: Фильку ли укреплял в желании бежать, или радовался, что лохматый станет жить.
В слободе в это время поднялась какая-то суматоха: в разных местах кричали, слышался конский топот. В щели загона было видно, как десятка два конных татар повалили к распахнутым воротам. Сзади трясся на вислозадой лошади монах-переветник Мина.
Отряд поскакал к Которосли, к наплавному мосту.
Глава вторая. Лесные люди
Только к вечеру добрался Дементий до места. Шел таясь, хотя трудно было встретить в этой лесной глухомани человека. Самые опасные две версты — узкая тропа среди болота — удалось пройти засветло. И это его порадовало, можно было теперь немного отдохнуть.
У ручья со стылой ключевой водой он напился, присел на моховую кочку. Думал, что влечет его в лесное урочище не только дело, порученное князем, ждал: испытает радость от встречи с Евпраксией Васильковной. Боялся признаться, но куда от себя денешься, — любил тайно, безответно, никогда ничем не выдавая своих чувств. А как иначе — не юноша восторженный, и она не девица, сын у нее жених…
В сумерках с холмистой поляны увидел над лесом жидкие дымки: дышали плавильные печи-домницы. Место это — затерянное, окруженное болотами, — старались обходить. Рассказывали незнающие: это-де ядовитые болота дымят, лешие себе еду готовят. Слухи надежно оберегали лесное урочище от любопытных. И все-таки Дементий подумал: перестали осторожничать лешаки, того гляди, татар привадят.
По узкой тропе он вышел к озеру. Солнце, увеличенное до огромного шара, ушло за лес. На травянистых береговых склонах сгущался туман. Со стороны противоположного, высокого берега озера поднимались бревенчатые стены с башнями, за ними выглядывали крыши построек. Левее городища вспыхивали костры. Их пляшущий огонь высвечивал большую поляну с огромным деревянным идолом, множеством разбросанных шалашей.
Это было древнее селище. Коренные люди его поклонялись своим богам.
Спасаясь от татар, пробирался сюда народ, пополнял население. И селище постепенно превратилось в ремесленный посад: появились углежоги, добытчики болотной руды и плавильщики, копейщики и лучники. Были также охотники, бортники, промышлявшие лесным медом, землепашцы. Мало кто знал о существовании селища; ходили слухи, что есть где-то лесные люди, живут своими законами и до сих пор поклоняются идолу. Надежно охраняли «лешаков» окружающие болота.
Раз в году, в пору созревания хлебов, в селище издревле устраивался праздник. Еще накануне пробирались лесными запутанными тропами, плыли на ладьях с той стороны озера немногие званые гости; на поляне, неподалеку от идола, ставили легкие шалаши, зажигали костры.
Сейчас, когда темнота сгустилась, люди у шалашей чаще стали оборачиваться в сторону деревянного божества — с некоторой опаской и любопытством ждали начала древнего языческого обряда. Грубо отесанный лик, освещенный огнем, казался гневным, и смотреть на него было жутковато. Отверстия рта, носа и глаз чернели провалами.
Сзади идола, в полусотне шагов, стояла приземистая бревенчатая изба с узкими, как бойницы, окнами, с крепкой дубовой дверью. Толстенные бревна, из которых была сложена изба, расщелялись от давности, обросли мхом. Это было жилище языческого волхва Кичи, вход в него запрещался кому бы то ни было.
Дементий бывал здесь не раз в пору ежегодных праздников и знал, что сейчас, с наступлением темноты, волхв — его звали жрецом — готовится к исполнению обряда. Ведя в поводу лошадь, он обошел стороной шалаши — не хотел привлекать к себе внимания. Сторож у ворот, пристально оглядев его и лошадь с поклажей, поздоровался.
— Все благополучно? — спросил он.
— Спасибо, Омеля. Все удачно. Найду ли кого?
— Опоздал ты маленько, все там… — Сторож показал в сторону костров. — Иди и ты, не сумлевайся: сгружу и о коне позабочусь.
Кичи, ссохшийся, сгорбленный старик, давно уже потерявший счет своим годам, стоял у узкого окна, сурово наблюдал, как угасает день, выискивал в жизни природы одному ему известные тайные знаки.
Треск горящих сучьев и несмолкаемый говор, доносившийся с поляны, отвлекали его. Чаще, чем бы того хотел, он задерживал взгляд на шалаше, возле которого в окружении седобородых старцев — толкователей обрядов — сидела крупная женщина в сарафане, скупо украшенном бисерной вышивкой. Свет костра падал на ее покрытое румянами лицо.