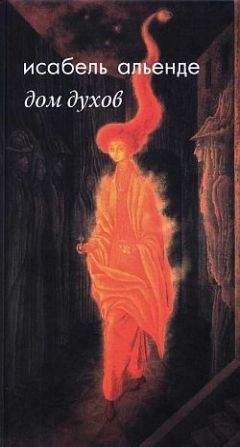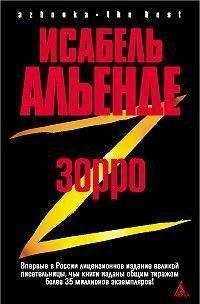Панча Гарсиа была молодой, а хозяин сильным. Через некоторое время результат их связи не замедлил сказаться. Вены на смуглых ногах девушки стали похожи на червяков, движения сделались медленными, а взгляд далеким, она потеряла интерес к шалостям на железной кровати, у нее пополнела талия, и грудь налилась соками новой жизни, возникшей в ее теле. Эстебан не скоро заметил это — он никогда не смотрел на нее и, когда первый порыв страсти у него прошел, больше не ласкал. Он ограничивался тем, что пользовался ею как средством, которое снимало напряжение дня и дарило ему ночь без тяжелых снов. Но наступил момент, когда беременность Панчи стала очевидной и для него. Он почувствовал к девушке отвращение. Труэба воспринимал ее как некую огромную упаковку, содержащую бесформенную и студенистую субстанцию, в которой он не мог признать своего отпрыска. Панча покинула его дом и вернулась на ранчо своих родителей, те не задавали ей никаких вопросов. Она продолжала работать на господской кухне, замешивала тесто, шила на машинке и с каждым днем все более округлялась. Потом перестала прислуживать за столом и избегала встреч с хозяином — они были уже не нужны друг другу. Неделю спустя, после того как она покинула его постель, Эстебан снова возмечтал о Розе и проснулся на влажных простынях. Он взглянул в окно и увидел тоненькую девочку, что развешивала на проволоке выстиранное белье. Казалось, ей не более тринадцати или четырнадцати лет, но выглядела она уже созревшей для любви. В этот момент она обернулась и посмотрела на него: взгляд был женский.
Педро Гарсиа увидел, как хозяин пошел, насвистывая, по дороге и, обеспокоенный, покачал головой.
В течение десяти лет Эстебан Труэба сделался самым почитаемым в этом крае хозяином, он построил кирпичные дома для рабочих, добился приезда учителя в школу, улучшил жизнь всех, кто работал на его земле. Лас Трес Мариас оказалось доходным имением, не требующим даже дополнительных средств от золотой жилы, напротив, само имение стало служить гарантией продления концессии. Скверный характер Труэбы стал притчей во языцех и ухудшился настолько, что мешал и ему самому. Он не допускал возражений, не выносил, когда ему противоречили, любое несогласие считал подстрекательством к бунту. Возросла и его похоть. Ни одну девушку, едва достигшую половой зрелости, ни одну взрослую женщину он не пропускал. Он брал ее либо в лесу, либо на берегу реки, либо на своей железной кровати. Когда он перепробовал всех девушек и незамужних женщин в Лас Трес Мариас, он стал совершать набеги на соседние имения, насилуя девушек сразу же, как только хватал, в любом месте, обычно по вечерам. Он ни от кого не таился, потому что никого не боялся. Иногда приходили в Лас Трес Мариас чей-либо брат, отец, муж или хозяин, требуя у него ответа, но он встречал всех с несдерживаемой яростью, и подобные посещения становились все реже и реже. Слава о его любовных победах гремела по всей округе, вызывая завистливое восхищение у самцов, подобных ему. Крестьяне прятали от него своих дочерей и только бессильно сжимали кулаки, не решаясь оказать сопротивление. Эстебан Труэба был сильнее всех и оставался безнаказанным. Дважды обнаруживали трупы крестьян из других поместий, убитых из охотничьего ружья, и ни у кого не возникло сомнений, что искать убийцу следует в Лас Трес Мариас. Однако сельские жандармы ограничились тем, что в своих протоколах зафиксировали сам факт убийства, причем писали очень старательно, почерком полуграмотных людей, и по их писаниям выходило, что погибшие были ворами. Дело замяли. Труэба все больше представлялся крестьянам исчадием ада, он не знал удержу, заселяя округу незаконнорожденными детьми, собирая урожай ненависти и накапливая яд мести; но он плевал на все и вся, душа его задубела, и совесть умолкла. Он оправдывал себя тем, что воскресил к жизни имение. Напрасно Педро Сегундо Гарсиа и старый священник из больницы монахинь пытались убедить его, что не кирпичные домики и молочные реки делают хозяина хорошим, а христианина добрым, но уважительное отношение к работникам, не розовые бумажки им нужны, а настоящие деньги за работу, которая не подрывала бы здоровья тех, кто трудится. Труэба не хотел и слышать подобных разговоров, которые, по его мнению, попахивали коммунизмом.
— Речи дегенератов, — сквозь зубы цедил он. — Большевистские идеи, — и только для того, чтобы подстрекать моих работников к бунту. А не понимают, что у этих бедняков нет ни культуры, ни воспитания, они не могут отвечать за свои поступки, это же дети. Откуда они могут знать, что им нужно. Без меня они все погибли бы, ведь едва я отвернусь, как все летит к черту, они начинают делать глупость за глупостью. Они очень невежественны. Мои люди хорошо живут — чего им еще желать? У них всего достаточно. Если они и жалуются, то только потому, что неблагодарны. У них кирпичные дома, я забочусь о новорожденных, о том, чтобы не водились гниды у детишек, делаю им прививки и учу их читать. Разве здесь где-нибудь есть еще имение, где была бы школа? Нет! Всегда, когда могу, я веду их слушать проповеди и не понимаю, почему священник приходит ко мне и твердит о несправедливости. Он не должен вмешиваться в то, чего не понимает; а он ничего не смыслит в мирских делах. Хотел бы я видеть его хозяином этого имения! Стал бы он тогда кривляться?! С этими несчастными нужно разговаривать на языке кулаков, это единственный язык, который они понимают. Если кто-то начинает нянькаться, его перестают уважать. Я не отрицаю: много раз был суров, но всегда справедлив. Я должен был научить их всему, даже нормально есть, ведь, если бы не я, они питались бы только хлебом всухомятку. Стоит мне отвернуться, как они бросаются кормить свиней молоком и яйцами. Еще не научились подтираться, а хотят права голоса? Ничего не понимают в хозяйстве, а желают заниматься политикой? Они, возможно, будут голосовать за коммунистов, как шахтеры севера, а ведь те своими забастовками только вредят всей стране, и именно тогда, когда цена руды достигла максимума. Я бы послал войска на север, пусть постреляют, может, это их чему-то научит. Мы ведь не в Европе. Единственное, что здесь нужно, это крепкое правительство, сильный хозяин. Все было бы очень мило, если бы все мы были равны, но это не так. Это бросается в глаза сразу. Здесь только я умею работать и утверждаю это, положа руку на сердце. На этой проклятой земле я просыпаюсь первым и ложусь последним. По мне, так я послал бы все к чертям и поехал бы жить принцем в столицу, но я должен быть здесь, потому что отсутствуй я даже неделю — это все, конец, крах, мои люди начнут умирать от голода. Вспомните, что было здесь девять или десять лет тому назад, когда я приехал сюда: полное разорение. Пустыня, одни камни и грифы. Все пастбища заброшены. Никому и в голову не приходило провести воду. Они сажали четыре хилых кустика салата в своих патио, на остальное им было наплевать, нищета, сплошная нищета. Мне необходимо было приехать, чтобы навести порядок, восстановить имение, дать людям работу. Как же мне не гордиться? Я так хорошо работал, что уже купил два соседних имения, и теперь мои владения самые большие и богатые в этих краях. Мне завидуют все, это же пример, у меня образцовое хозяйство. И теперь, когда рядом проходит шоссе, захоти я продать свое имение, я получил бы двойную прибыль. Я мог бы отправиться в Европу и жить на ренту, но я не уеду, я остаюсь здесь, я упорный. Я остаюсь ради своих людей. Без меня они пропали бы. Если посмотреть в корень, они ни на что не годятся, даже приказы не исполняют, я всегда говорил: они как дети. Нет ни одного, кто бы делал то, что должен делать, если я не стою у него за спиной. И после этого мне рассказывают сказки о том, что мы все равны! Умереть со смеху, да и только…
Матери и сестре он ящиками отправлял фрукты, солонину, свежие яйца, живых кур, маринады, рис и зерно в мешках, сыры и деньги, необходимые им, кучу денег. Лас Трес Мариас и шахта были так плодородны, как только что созданные Богом земли — Богом, которого услышал тот, кто хотел услышать. Донье Эстер и Феруле Эстебан давал то, о чем они никогда и мечтать не смели, но у него за все эти годы не было времени навестить их, даже если проездом он и бывал в городе. Он был так занят делами в деревне, на новых, купленных им землях, так занят всеми предприятиями, которые давали доход, что не мог терять свое драгоценное время у постели больной матери. К тому же существовала почта, что связывала их, и поезд, который доставлял им его дары. Он не испытывал желания их видеть. Все можно было сказать в письмах. Все, кроме того, что он не хотел, чтобы они знали, например, об уйме незаконнорожденных, появлявшихся на свет Божий точно по мановению волшебной палочки. Не успевал он завалить какую-нибудь девушку на пастбище, как она тут же брюхатела, это было просто дьявольское наваждение, это казалось невероятным, он был уверен, что половина малышей не его. Поэтому он решил, что кроме сына Панчи, которого, как и его, звали Эстебан, — ведь Панчу именно он лишил невинности — остальные могли быть его детьми, а могли и не быть таковыми. Спокойнее думать, что они не от него. Когда к нему приходила какая-нибудь женщина с дитем на руках и просила дать ребенку имя или какую-либо помощь, он совал ей пару купюр и говорил, что если она еще раз заявится, он ее высечет, чтобы у нее навсегда пропала охота вилять хвостом перед первым встречным самцом, а потом обвинять его. Вот так и получилось, что он никогда не знал точного числа своих детей, но, правду говоря, это его и не интересовало. Он считал, что, когда ему захочется заиметь детей, он найдет себе достойную супругу. Церковь благословит его брак, и только тех детей следует считать своими, кто носит твое имя, а остальные как бы и не существуют. И пусть к нему не суются с ахинеей, будто все рождаются с одинаковыми правами и наследуют все на равных, ведь в этом случае все полетело бы к черту, а народы вернулись бы к каменному веку.