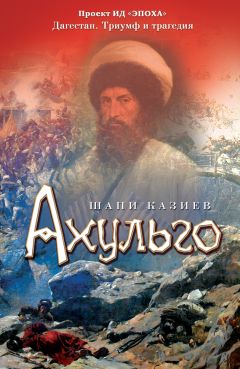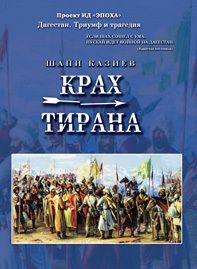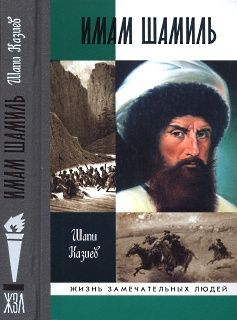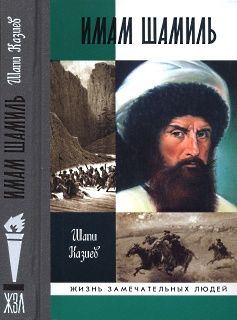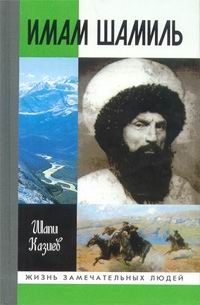– Я тоже не боюсь, – говорил Гази-Магомед, стараясь храбриться перед гостьей.
Джамалуддин достал бумагу, чернила, калам – заостренную палочку для письма – и сказал девочке:
– Я могу написать твое имя.
– Напиши, – улыбалась синеглазая гостья.
– Это буква «мим», – объяснял Джамалуддин.
– Как кружочек с хвостиком, – удивилась девочка.
– Это когда в начале, а если в середине – с двумя хвостиками, – объяснял Джамалуддин.
– Если поставить сверху такой значок, получится «Му»… А вот это – «сад», потом – «лам»… Потом еще буквы, а потом… И вот получилось Муслимат.
– Муслимат, – повторила девочка.
– А если написать «малаик» – «ангел», тоже надо начинать…
– С буквы мим? – догадалась девочка.
– Можешь сама попробовать, – разрешил Джамалуддин.
Муслимат взяла калам и начала старательно выводить букву.
– А ты ангелов видел? – спросила Муслимат.
– Нет, – ответил Джамалуддин.
– Их никто не видел.
– А какие они?
– Учитель говорил, что они созданы из света, – сказал Джамалуддин.
– А мама говорит, что я – ее ангел.
– Не знаю, – пожал плечами Джамалуддин.
– Может, и такие ангелы бывают. В медресе говорили, что ангелы – главные воины Аллаха, которые исполняют все его приказания и помогают людям.
– Как наибы? – догадалась Муслимат.
Джамалуддину было приятно такое сравнение, но он знал, что небесное воинство никак нельзя сравнивать с людьми.
– Ангелы сильнее всех людей, – сказал он.
– И сильнее всех пушек.
– А они нам помогут? – спросила Муслимат.
– Конечно, – кивнул Джамалуддин и вдруг обнаружил, что Муслимат уже написала все слово.
– Ты тоже умеешь? – удивился он.
– Мама научила, – сказала Муслимат.
– А ты не знаешь, когда она придет? И папа тоже?
– Скоро, – заверил Джамалуддин.
– Мой папа тоже редко приходит.
– А почему?
– Они же воюют, – объяснил Джамалуддин.
– А мне не разрешают. Но я тоже воевал. Хочешь, расскажу?
– Да, – раскрыла и без того большие глаза Муслимат.
– Я тоже воевал! – сообщил ГазиМа-гомед, доставая из ларя последние орехи и угощая девочку.
– Ты только порох приносил, – усмехнулся Джамалуддин.
– А я стрелял по-настоящему!
– А я, когда вырасту, буду Хочбаром! – пообещал Гази-Магомед.
– Его все ханы боялись!
– Вырасти сначала, – отмахнулся от брата Джамалуддин.
– У тебя кинжал больше, чем ты сам!
Джамалуддин считал себя уже взрослым. Но когда вошел его дедушка Абдул-Азиз и крепко пожал ему руку, он слегка оробел. Дедушка смотрел на него не так, как раньше, а с особым уважением и даже с надеждой. Потом он подошел к матери Джамалуддина, что-то сказал ей, и та, раскинув руки, горестно закричала:
– Не отдам!
Джамалуддин не понимал, что происходит, только видел, как Джавгарат зарыдала и начала бить себя по лицу, как метнулась к нему мать, будто хотела прикрыть от чего-то страшного, как дедушка силой удержал ее, а потом сказал Джамалуддину:
– Иди к отцу, он тебя ждет.
Мать продолжала кричать, почти выть:
– Нет! Нет! Иди ко мне, сынок!
Ошеломленный Джамалуддин не мог двинуться с места, а Муслимат и младший брат дружно заплакали.
– Джамалуддин! – крикнул Абдул-Азиз.
– Ты еще здесь?!
Джамалуддин будто очнулся и побежал из дому. Воля отца была для него превыше всего. Шамиль ждал его у мечети.
– Джамалуддин, – сказал Шамиль.
– Ты должен пойти к русскому генералу и сказать, чтобы он перестал с нами воевать.
– А разве он меня послушает? – удивился Джамалуддин.
– Меня он не послушал, а тебя послушает, ты же настоящий герой!
Джамалуддин был горд таким необыкновенным поручением, но затем его охватило неясное беспокойство.
– А потом что?
– Юнус скажет, – ответил ему отец.
– Он пойдет с тобой.
Но прежде они вошли в мечеть, большую часть которой занимали раненые, и совершили предвечерний намаз вместе со всеми, кто мог стать на молитву. Затем Шамиль вывел сына, обнял его и долго не отпускал. Разжав, наконец, объятия, Шамиль отвернулся, опасаясь, что может передумать.
Юнус поправил на Джамалуддине папаху и пошел с мальчиком к перекопу. А Шамиль вернулся в мечеть, чтобы снова молить всевышнего об избавлении гор от войны и о спасении народа.
Секретарь потом записал:
«Усилились бедствия, испытываемые детьми и женщинами, а также умножились жалобы со стороны раненых, голодных и слабых; учитывая слабость перечисленных лиц, претерпеваемые ими бедствия, тяготы, которые они вкушают – голод, жажду, недосыпание, а также обязательность перемирия с точки зрения шариата в случае, если отказ от него влечет за собой нанесение вреда мусульманам, Шамиль согласился все же отдать усладу своих очей Джамалуддина. Последние при этом обязались выполнить следующие условия имама – прекратить бой и возвратиться на свою территорию».
Разъяренный очередной неудачей, Граббе сосредоточил огонь всех орудий на втором рубеже обороны Ахульго, который удерживали горцы. А тем временем принимал рапорты удрученных командиров. Попов и Тарасевич ничего не смогли сделать, хотя и потерь особых не понесли. Но рапорт Пулло ошеломил Граббе.
– Сколько-с? – переспросил Граббе, которому показалось, что он ослышался, когда Пулло назвал цифру потерь Куринского полка.
– Выбыло из строя восемь офицеров, из них два убиты и восемь ранено, и триста сорок семь нижних чинов, – повторил Пулло.
– Сколько всего по отряду? – обернулся Граббе к Милютину, который подсчитывал потери на бумаге.
– Сто два убитых, – подвел итог Милютин.
– Сто шестьдесят два раненых, из них восемь офицеров, и двести девяносто три контуженных, ваше превосходительство.
– Без малого – батальон? – негодовал Граббе.
– Хорошо еще, что потери меньше, чем в прошлый раз. Только этот прошлый раз вас ничему не научил! День на уборку тел, день на похороны… Просто некогда воевать!
– По полученным сведениям, Шамиль тоже потерял немало, – вставил Галафеев.
– И в числе прочих лишился ближайшего своего помощника – Сурхая.
– Важная новость, – кивнул Граббе.
– Также и других двух наибов, – добавил Пулло.
– Сил у него, полагаю, не осталось. Уже женщины да дети воюют.
– Не осталось? – сомневался Граббе.
– Отчего же Ахульго не взято?
– Возьмем, – пообещал Галафеев.
– Войска дрались геройски, передовой бастион в наших руках. Вот наберемся сил – и конец Шамилю.
– Наберемся сил? – язвил Граббе.
– Откуда же их взять, если вы на сто шагов по батальону кладете? Если гору несчастную два месяца щупаете, а ухватить не можете! Так воевать нельзяс, господа!
– Надо бы сменить передовые части, – предложил Галафеев.
– Ширванцы отдохнули, пора их снова в дело пустить.
– Ширванцы уже ходили, да ни с чем вернулись, – отмахнулся Граббе.
– А отряд тогда лишился двух батальонов.
– Многие раненые теперь поправились, ваше превосходительство, – сообщал Милютин.
– А мне думается, господа, что многие теперь и воевать не хотят, на наши успехи глядючи, – сказал Граббе.
– В отряде ропот, милиции в разброде, ханы в усы посмеиваются… Этак мы с вами скоро одни останемся!
Упорство Шамиля и его мюридов рушило все представления Граббе о правилах ведения войны. Это не укладывалось ни в какие теории и не имело примеров. Граббе начинал понимать Фезе, который заключил с Шамилем мир. Прежде и сам Граббе считал это недопустимой оплошностью, но теперь вынужден был признать, что у Фезе могли быть для этого достаточные основания. Однако Граббе не допускал и мысли о повторении конфуза, случившегося с Фезе под Телетлем, когда он удовлетворился взятием в заложники племянника имама и ретировался, признав Шамиля властителем гор, равным в своем достоинстве коронованным особам. Слишком многое Граббе поставил на карту, слишком велики были жертвы, чтобы уйти ни с чем. Он теперь мог вернуться только с Шамилем в цепях, иначе терзавшая его многие годы тень «прикосновенности к делу декабристов» показалась бы только цветочками, а ягодки были припасены у Чернышева. Но силы Граббе, его отряда были почти исчерпаны, Головин больше подкреплений не давал, а невыносимая жара вот-вот сменится холодами, которые вынудят снять осаду и вернуться на зимние квартиры. Искусство войны, владение которым приписывал себе Граббе, не впечатляло его командиров, скорее, даже наоборот, они считали напрасными ужасные жертвы, принесенный отрядом на алтарь войны по методу Граббе. Свидетельством тому были сотни трупов, усеявших пропасти вокруг Ахульго, которые даже достать не было никакой возможности. Были среди них и горцы, но Граббе это не утешало. Он считал, что во всем виноваты его командиры, которые сами вели штурмовые колонны, разбившиеся о немногочисленных мюридов. Но это не могло служить оправданием для командующего, ведь приказы-то отдавал он сам.