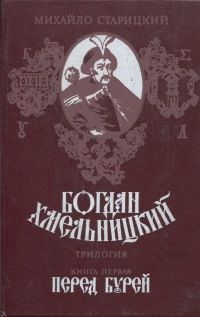— Титочко, титочко, — шептала она, прижимаясь головой к холодным, скрещенным на груди рукам покойницы, и слезы тихо сплывали одна за другой из глаз Ганны на эти окаменевшие руки, и Ганна чувствовала, что больше уже не нужно титочке ни ее заботы, ни услуги, да и вообще, что она, Ганна, не нужна больше в Суботове никому. Дети выросли... один только Юрась, да и тот льнет охотно к Елене... титочка умерла, а Богдан... Ох, ему теперь утехи довольно! И где то былое время, когда он хлопотал вместе с нею над хуторами, над приемом беглецов, когда делился с нею каждою думой, каждою мыслью своей? Минуло, прошло! Все, все прошло безвозвратно, как осенний туман над водой. Картины прошлой жизни проходили, как живые перед ее глазами, и Ганна невольно прерывала свое чтение, так как слезы застилали ей глаза. Одна мысль стояла перед ней ясно и неоспоримо: Суботов умер для нее, а вместе с ним умерла и ее жизнь!
Богдан сносил свое горе сдержанно и спокойно, но видимо какая-то другая мысль угнетала его; он избегал встречи с Ганной, избегал ее взгляда, грустного и тихого, словно подавленного безысходною тоской.
В доме было мрачно и тихо. То и дело прибывали толпы крестьян и соседней шляхты поклониться покойнице. Все входили бесшумно, прикладывались к мертвой руке и, расспросивши шепотом о подробностях смерти, грустно покачивали головами и отходили к стороне. Два раза в день служились панихиды. Запах ладана проникал в самые отдаленные уголки. Наконец настал и третий день, схоронили покойницу и возвратились домой.
Опустела маленькая комнатка, где за столько лет все привыкли видеть неизменно больное, но доброе лицо хозяйки и слышать ее слабый, прерывающийся голос. Теперь можно было и ходить, и говорить громко, но, несмотря на это, все двигались бесшумно, и вырвавшийся нечаянно громкий возглас пугал всех, словно смерть еще не покинула этот дом. Так настал и девятый день.
С самого раннего утра и даже с вечера начал прибывать в Суботов народ из окрестных сел и деревень. Весть о смерти жены пана генерального писаря и о том, что он дает на девятый день большой поминальный обед, успела уже облететь всех близких и дальних соседей. Хлопоты и заготовления к обеду начались еще за три дня. Между прибывающими толпами виднелось множество нищих, калек, слепцов и бандуристов. В ожидании панихиды и обеда люди группировались кружками, то сообщая о своем житье-бытье, то расспрашивая о новостях у захожих бандуристов и слепцов.
Оксана, Катря, Олекса и дворовые дивчата суетились во дворе, устанавливая на столах огромные полумиски с нарезанными ломтями хлеба, оловянные стаканы, ложки, солонки и все, что нужно было для обеда.
Среди собравшихся нищих один только не принимал участия во всеобщих разговорах. Судя по внимательным взорам, которые он бросал по сторонам, можно было бы заподозрить его в каком-нибудь злом умысле, кстати, и гигантская фигура незнакомца, почти закрытая всклокоченною бородой, с надвинутою на самые глаза шапкой, могла внушать большие опасения, но гигантский нищий, казалось, не имел никаких злостных намерений, — он держал себя весьма странно и несколько раз, отвернувшись от всех, утирал глаза рукавом.
— Дивчыно, как звать тебя? — обратился он, наконец, к Оксане, останавливаясь перед нею и опираясь руками на палку.
— Оксаной, — ответила та, смотря с изумлением на нищего и вслушиваясь в его глухой и неестественный голос.
Странный нищий давно уже обратил на себя ее внимание, тем более что Морозенко, она заметила это, видимо обрадовался его приходу и несколько раз шептался и переговаривался с ним.
— Так, так, — проговорил задумчиво нищий, покачивая грустно головой. — А выросла ты, дивчыно, и расцвела, как пышный мак!
— Разве вы знали меня? — изумилась Оксана.
— Мне ли не знать? Знал, знал.
— А я вас, дядьку, не помню.
— Да куда ж тебе, — маленькой была... А что, хорошо ли тебе здесь, у пана писаря?
— Хорошо, слава богу, — ответила Оксана, смотря с еще большим изумлением на странного нищего. — Любят, титочка любила, Ганна, ну, и другие там, —опустила она глаза и снова подняла.
— Ты, дивчыно, не дивись, — поспешил он успокоить ее. — Ведь я тебе почитай что родной, ведь я товарищ твоего батька.
— Батька? Так вы, быть может, знаете что-нибудь о нем? — вскрикнула Оксана и хотела было расспросить неизвестного товарища, но голос бабы призвал ее.
Дивчына побежала поспешно, а нищий бросил в сторону ее удаляющейся стройной фигурки долгий и любовный взгляд.
Более знатные гости из старшины или вельможных соседей подъезжали на колымагах к рундуку{231} будынка.
В отделении господаря, в средней светлице и в свободной теперь комнате покойницы толпились именитые гости. Среди них в отдельной кучке таинственно беседовал о чем-то пан Чаплинский со своим зятем Комаровским; все окружающие, очевидно, близкие люди, поляки, наклоняли и вытягивали головы, чтобы услышать интересные сообщения пана подстаросты, но среди шепота и недомолвок долетали до задних рядов только отрывочные фразы.
— Клянусь вам, панове, — только тихо, и лисица будет в капкане. Уже следы открыты. Гончих и доезжачих у нашего вельможного панства — не счесть... хвостом долго не ломанешь... и цап-царап!.. Ха-ха-ха! Только дождемся сейма, а тогда... але тихо!
В господарском отделении Золотаренко вел между тем интимную беседу с Ганджой.
— Что-то у вас тут деется? — говорил угрюмо Золотаренко, глядя в сторону.
— Да что, как видишь. Хозяйку похоронили... Обед справляем.
— Смерть, это что! Самый верный друг: не обманет. А вот сумно тут стало.
— Да чудной ты! Оттого-то и сумно. Что ж, на похоронах плясать, что ли? Вот ты и ушкварь!
— Да я не о том, — тряхнул раздражительно головой Золотаренко, — а о новых порядках... ляхи какие-то завелись... Богдан что-то как будто...
— Стой! Что ты? — отступил Ганджа. — Никакого ляха, а батько, как есть батько. Ну, и какие ж теперь порядки? Известно какие, по завету, как след.
— Э, да что с тобой толковать! — махнул Золотаренко рукою с досадой и потом добавил торопливо: — Ну, а что про дела? Я ведь в отлучке был, доходила глухая чутка, а доподлинно не знаю, что нового, хорошего, да такого, чтобы чувствовала ладонь?
— А вот обещал, что торжественно объявит, може, сегодня, — улыбнулся Ганджа своею широкою, волчьей улыбкой.
В просторной девичьей светлице хлопотали уже с самого утра Ганна с бабой и другими помощницами; она резала хлеб, укладывала в миски пироги, разливала наливку и водку.
Елена, войдя в светлицу, слегка прищурила глаза, обвела всю комнату беглым взглядом и остановила их на Ганне. Ух, до чего опротивела ей эта тощая святоша! И почему это она до сих пор распоряжается здесь всем?
— Столы для старшины, панно Ганно, где расставлять? — спросила торопливо Оксана, вбегая в комнату.
— А где ж, голубка? Там вместе на ганке и возле дома в тени, — ответила Ганна, стоя на коленях возле большой сулеи наливки, которую она разливала в кувшины.
— Как это, и старшину, и вельможную шляхту посадить вместе с нищими и калеками? — спросила Елена, и в голосе ее послышался какой-то насмешливый и пренебрежительный тон.
Ганна подняла голову и ответила сдержанно, хотя краска залила ей все лицо до самых ушей.
— У нас всегда так бывало.
— Мало ли чего ни бывало, да миновало, панно, — подчеркнула едва заметно Елена.
— Еще при жизни титочки я привыкла здесь всем распоряжаться сама, — ответила гордо Ганна, — и дядько доверялся мне во всем.
— Но ведь титочка, — Елена усмехнулась при этом слове, — умерла, а дядько, — подчеркнула она опять, — просил и меня показывать все звычаи, так как я выросла при варшавском дворе.
Ганна встала:
— Панна хочет сказать этим, — произнесла она глухим голосом, бледнея, как полотно, — что я здесь лишняя теперь, что она может распорядиться всем и сама.
— О нет! Ха-ха-ха!.. Сохрани, пресвятая дева! Бог с тобой, панно, — рассмеялась Елена своим звонким, серебристым смехом, — я не ищу отнять твою власть от лехов и коров!
— Не для коров и лехов прибыла я в Суботов, — заговорила Ганна прерывающимся голосом, отступая назад и обдавая Елену гордым взглядом своих расширившихся глаз. — Не расчет и не коварство привели меня сюда! Я бросила для семьи дядька единственного брата; я была матерью детям Богдана; я была дядьку другом щырым и верным...
— А я... — усмехнулась едко Елена, — стала татку коханою дочкой! — и, смерив Ганну холодным, торжествующим взглядом своих синих глаз, она гордо повернулась к дверям.
Во время разговора Ганны с Еленой Оксана едва удерживала свое негодование, но когда она заметила, что Елена, вся сияющая довольством, вышла горделиво из комнаты, а панна Ганна, бледная, едва сдерживающая слезы, направилась, шатаясь, к дверям сеней, она бросилась и сама опрометью из дома во двор, чтобы отыскать Морозенка и передать ему весь слышанный ею разговор.
— Олексо, — зашептала Оксана, найдя молодого казака у бокового крыльца, выходящего в сад, где не было видно никого.