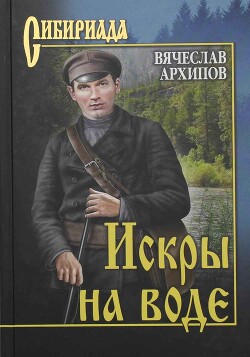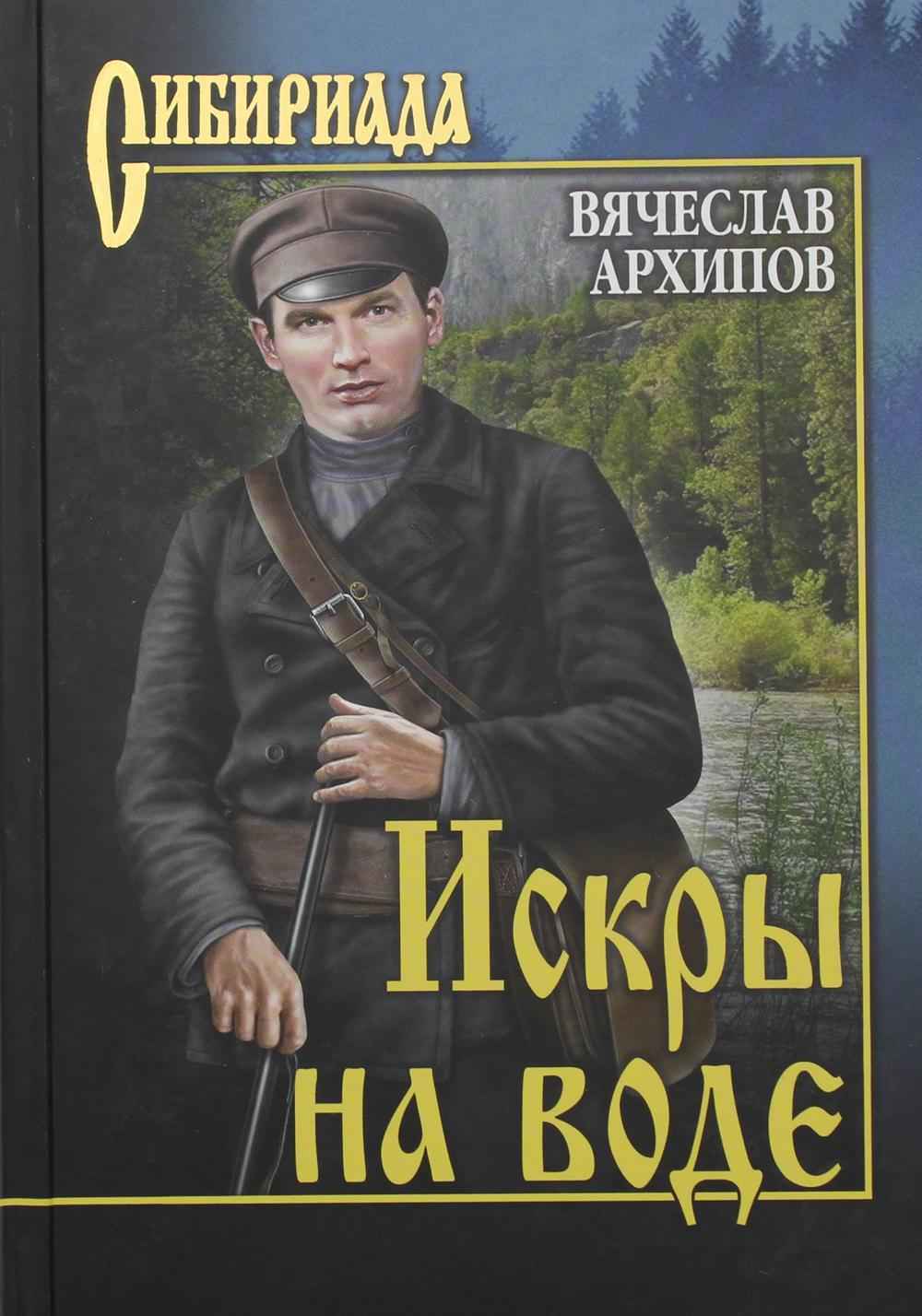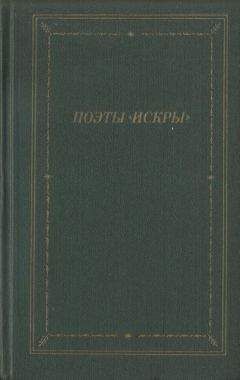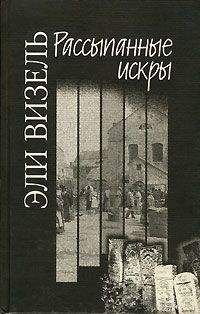Однажды после посещения рынка к Евсею зашёл Маркел. Евсей с Родионом ставили стропила в бане, собирались крыть крышу.
—
Бог в помощь, — сказал Маркел, присаживаясь на чурку.
—
Бог-то, Бог, да будь и сам не плох, — ответил Евсей, откладывая топор.
—
Здорово, Маркел, — сказал Родион.
—
Ходил на базар, послушал, что мужики из деревень говорят, — сказал Маркел. — Вспомнилась наши Тальники. Вы-то вспоминаете?
Евсей сел на край сруба, снял кепку и вздохнул:
—
Другой раз аж до слёз, стыдно и признаться.
—
Я уж думал, только у меня такая хандра. — Маркел даже улыбнулся. — Спросить у других совестно.
—
Чего совеститься, разве худое дело какое?
—
Оно так, да только когда бабы о том говорят — это нормально, а мужики обычно помалкивают, вон, как Родион. Разговорчивый у тебя брат, Евсей.
Родион только усмехнулся. Все мужики из деревни были будто родня, ведь вместе прожито столько лет.
—
Как там твой тесть, давно не видел? — спросил Маркел Родиона.
—
Ничего. Помаленьку хорохорится, хотя слабый стал.
—
Зайти всё собираюсь, да как-то не складывается. Часто вспоминаю его, если бы не он, как бы жизнь повернулась? Хороший мужик, хоть и лавочник был.
—
Чего там на базаре ещё говорят? — спросил Евсей.
—
Того и говорят, что нынче урожай неважный ожидают: погода подкачала, так и изворачиваются, кто как может. Поговаривают, что картошки надо поболее собрать да капустки наквасить. Только загадывать всё можно, а как на самом деле случится? У них там, пока колхозное не уберёшь, своё не дают убирать — вот и жди погоды. Когда снег сыпанёт, тогда и копай картошку в снегу, а то и помёрзнет вся.
—
Бывало и такое, — согласился Евсей. — Только тебе какая тоска? Свою картошку в огороде ты соберёшь ко времени да по теплу.
—
Вроде не моё, а всё душа болит. Вот и подумается: вовремя из деревни уехали, даже не представляю, как бы мы жили под присмотром.
—
Так бы и жили, как все, только хуже, — ответил Евсей.
—
Почему хуже?
—
У нас народу было мало, схалтурить тяжелее — все на виду.
—
А Настасья моя привыкла, говорит, что надо было раньше уезжать. Среди внуков, словно клуша, похаживает, да уму-разуму их учит. И не только моя, другие деревенские бабы соберутся, потрещат, где и всплакнут — им и легче.
—
Среди внуков проще: одному штаны смени, другому нос вытри, третьему подзатыльника выдай, а там ещё и обед сготовь, постирай — думать некогда. И хозяйство тоже пригляд требует.
Посидели мужики, поговорили и разошлись.
Так и не успел зайти Маркел к Хрустову: скончался старик в конце лета. В погожий тёплый вечер вышел на крылечко, присел на стул, специально поставленный для него, и вроде бы уснул, а когда Родион пошёл за ним звать домой, Илья Саввич был уже неживой.
В день похорон к дому Хрустова шли и шли люди: заходили в дом, сидели некоторое время, а потом подходили к Лизе и совали конвертики с деньгами. Поначалу Лиза пыталась отказываться, но ей объяснил Кириллыч, что это православная традиция — помогать друг другу.
—
Ты, девонька, не обижай людей, они от чистого сердца дают, что могут, потому как Илья Саввич помог им в жизни немало. Люди ведь не по принуждению идут, по своей воле, значит, стоит это того.
После его слов Лиза просто брала конвертики и складывала их в ящик комода. Из бывших жителей Тальников пришли все вместе с детьми и внуками. Кто-то стоял в сторонке, кто-то помогал. На кладбище провожать Илью Саввича пошли немногие. Попробуй потом объяснить, почему ты ходил хоронить бывшего лавочника, поэтому люди и шли, будто мимоходом. Даже в последний путь проводить человека и то надо опасаться — такие времена.
После похорон на поминки пришли родные и все деревенские, кому не перед кем было держать ответ. Посидели за столом, выпили, как полагается, да вспомнили добрым словом человека, принявшего участие в их жизни.
—
Так и не зашёл, — сокрушался Маркел. — Думалось на днях да завтра, а оно видишь как?
Каждый вспоминал своё, личное, к чему прикоснулся Илья Саввич, дал путёвку в жизнь. Пусть люди не стали слишком богатыми, но и не хлебали горюшко лаптем, всегда был случай, чтобы заработать копейку, да так, чтобы и на чёрный день оставить. И все эти случаи связаны с Хрустовым, никогда не нарушавшим своего слова и не пытавшимся обмануть.
За разговорами засиделись до вечера: женщины помогли собрать столы и перемыть посуду, мужики всё лишнее вынесли во двор. Там, во дворе, в уголочке под навесом сидели Настенька с Машей и пятилетний брат Сашка. Дети растерянными глазами смотрели за происходящим. О них словно забыли на некоторое время в этой суматохе.
—
Пойдёмте домой, — позвала Лиза. — Давайте помянем дедушку.
Она заставила расстроенных детей хоть немного перекусить.
Через три года Тайшет стал городом. Теперь в округе люди стали
делиться на деревенских и городских. Знакомые встречались на рынке и говорили:
—
Что, городским заделался?
—
Да уж, не хлебаем щи лаптями.
И смеялись над собой, потому, как ни назови чугунок, а суть его остаётся прежней, и люди по-другому жить не стали. Чего-чего, а посмеяться русский человек умеет и над собой, и над другими.
В последнее время всё больше приходило эшелонов со спецпереселенцами, их определяли в разные населённые пункты, а потом и вовсе народу потребовалось больше: затеяли руководители страны строительство железной дороги на Север, вокруг Байкала. Вместе со строительством дороги появились и лагеря с заключёнными, строившими эту дорогу. В конце тридцатых годов в Тайшете было уже два лагеря: «Южлаг» и «Тайшетлаг». Они успешно пополнялись репрессированными из западных районов страны. Что творилось на стройке и в лагерях, местное население знало только по слухам, а за разговоры можно было и присоединиться к строителям великой стройки. Жители Тайшета делали вид, что ничего не происходит, и продолжали жить своими заботами.
Дочери Родиона выросли. Настенька, ей исполнился уже двадцать один год, работала на станции, в товарном отделе, окончив специальные курсы. Бойкая, весёлая красавица многих сводила с ума, да только сама не приглянула себе ещё никого. Машенька, такая же красивая, только скромная и спокойная, работала на почте. Сёстры были настолько похожи внешне, что их считали за близняшек, только характерами они были как небо и земля. Вокруг Насти всё бурлит и вертится, а Маша сидит в сторонке, смотрит да помалкивает. Сашка — брат, которому уже исполнилось десять лет, сильнее любил Машу: она больше уделяла внимания брату, а Настя только подсмеивалась. А слушаются ребятишки больше мать, она своим словом ставит на место сразу и без разговоров, а то так посмотрит, что лучше бы подзатыльником одарила. Отец души не чает в детях, балует их, уж тут не до строгости.
Мишка, старший сын Евсея, добился своего: стал-таки машинистом паровоза, одним из самых молодых машинистов. Должность большая, а важности никакой, как был мальчишка, так и остался, хотя ему уже и за тридцать. Зайдёт к Родиону на работу да посмеивается:
—
Как там мои сеструшки-хохотушки? Замуж не вышли?
—
Подыскал бы женихов, — отшучивался Родион.
—
Им не угодишь, останутся старыми девами.
—
Глазом моргнуть не успеешь, как разберут, хорошо, если потом внуков дадут, а то и этого не увидишь.
—
Сашка не желает ещё прокатиться на паровозе? — поинтересовался Мишка. (Он один раз брал его с собой.)
—
Сашка только и говорит, что про паровозы.
—
Надо ещё взять, пусть привыкает — работа хорошая, достойная.
—
Мал он ещё работать.
—
Вырастит.
В очередную субботу, как обычно, Родион затеял топить баню. Любил попариться добрыми вениками да разогнать кровь по жилам. В свои пятьдесят он чувствовал себя ещё совсем неплохо, но быстрее стал уставать от работы. Да спина иногда прихватывала, тогда только баня и спасала. Попарится, а потом отлежится денёк — глядишь, и ушла хвороба.