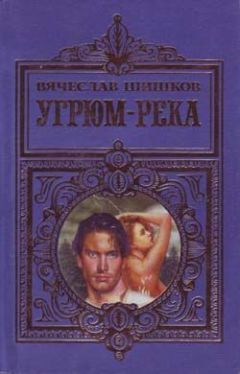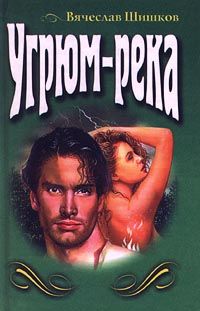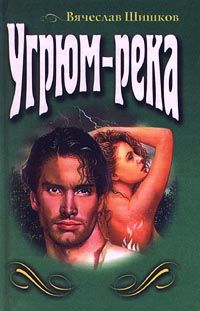– Я здесь, барин, – вшмыгнула девушка в накрахмаленном, в плойках, фартуке. – Я здесь.
– Нет-с. Ничего-с... Идите.
...И все рабочие поплелись по домам. Протасов вернулся в семь часов вечера. Глаза Анжелики заплаканы. Но он ничего не приметил. В квартире, казалось, был полный порядок. Впрочем, чуть-чуть припахивало дешевыми Наденькиными духами и сапожным дегтем.
Чрез два часа, ровно в девять, в квартиру Протасова собралась администрация и весь технический персонал. Началось заседание. Протасов давал директивы как власть имущий, как сам хозяин. Все внутренне лопались от удивления, от любопытства, но считали неудобным задать своему начальнику вопрос в лоб. Тем более что Андрей Андреевич Протасов, открыв заседание, заявил им:
– Я имею полную доверенность Прохора Петровича вести его дела так, как я найду нужным. Мистер Кук! Ваш очередной доклад о переоборудовании трансляции механического завода номер два. Прошу.
– О да! – Мистер Кук отхлебнул воды, потрогал тугой, стоячий воротник и начал.
Ранним утром от рабочих получен приятный Протасову ответ, и с обеда по всему фронту начались работы.
Вместо высланного Фомы Ездакова прииском «Новым» управлял теперь инженер Абросимов. Он опытный, дельный. А в помощь ему приглашен из Питера уже кончивший курс бывший студент Александр Образцов. Его приезду рабочие были рады. Больше же всех ликовала беременная супруга Ильи Сохатых, Февронья Сидоровна. «Ах, Александр скоро приедет... Саша!» Она сказала супругу:
– Если родится мальчик, наречем Александром.
– В честь кого?
– В честь батюшки.
– Я батюшка! Я Илья и ничуть не похож на Александра.
– В честь отца Александра, священника, – ловко отвела Февронья Сидоровна ревнивый окрик мужа.
По виду все шло хорошо. Рабочие старались с утроенной силой. Дело спорилось. Однако все думали: «Нет, что-нибудь еще должно стрястись, черт какое-нибудь коленце еще выкинет». Все ходили в предчувствии. Всех волновало отсутствие Прохора Громова и Нины Яковлевны.
В жизни людей не было радости. Песни смолкли. Народ тосковал. Может быть, тени мертвых блуждают, может быть, зреет новый грех и насилие. На кладбище ежедневно ходит народ. Тихие женщины, чье сердце чисто и просто, кладут на могилы венки, молятся. По ночам воют собаки, филин где-то близко ухает, стонет в болоте выпь.
И вот напряжение токов вдруг разрядилось, как молния.
...Вечер. Из голубого дома Стешеньки, наотмашь ударив руками в дверь крыльца, вылетела с визгом Груня. В тот же миг распахнулось окно и, сверкнув юбками, прыгнула на улицу обезумевшая Стешенька, страшно крича: «Ай, ай, ай!» А в доме кто-то хрипел.
И покажись проходившей старухе, что у Стешеньки перерезано горло, из горла по белой шее ручьями кровь. Старуха – прытью, как лошадь, по улице, заполошно орала:
– Караул! Караул!.. Прохор Громов любовницу свою зарезал... Ой, ой!.. Голову напрочь...
– Да нешто он здесь? – спрашивали встречные.
– Здесь, подлая душа... А где же ему быть-то?.. – и бабка дальше...
В два прыжка чрез дорогу, сабля наголо, в скандальный голубенький домик ворвался случайный прохожий офицер.
Посреди дороги спешил с почты запыхавшийся рассыльный, за ним – трехлапый пес.
– Кому телеграмма? От кого телеграмма? – наперебой торопливо спрашивали рабочие; они все еще ждали важных вестей из Питера по делу расстрела. – Чего в телеграмме? Эй, милый!
– Не знаю! Спешная. Инженеру Протасову...
Трехлапый, с оглоданным ухом пес-медвежатник остановился против квартиры Кэтти, присел, поджал ухо, дурным голосом взвыл, тявкнул и – дальше.
Протасов читал:
«Через пять дней буду с вами. Вышлите пристань лошадей.
Нина»Когда раскатилась повсюду весть о расстреле, в Питере и других городах пятьсот тысяч рабочих объявили однодневную забастовку протеста и на работы не вышли. А в обеих столицах забастовка тянулась целых пять дней.
Шумели без толку и в Государственной думе ораторы. Даже стыдили министра Макарова. А с министра как с гуся вода: «Так было, так будет».
Но казалось бесспорным для всех понимающих (разумеется, кроме правительства), что пролетарское движение в России растет. Забастовки протеста лишь были началом, вспышкой сознания организованных масс. Затем начался целый ряд забастовок и по всему простору русской земли: от Петербурга с Москвой до Урала, от Кавказа до Польши. В большинстве они длительны, иные из них протекали месяц, два, три. Экономические лозунги забастовок и стачек переросли в политические требования с яркой окраской. В больших городах забастовки захлестнули в свой круг строительных рабочих, ремесленников и прочий трудящийся люд. Мало-помалу движение становилось общенародным.
Крепла крупная перебранка труда с капиталом. Рабочие всюду дерзали, всюду готовили знамя восстаний – сигнал Революции.
И, стало быть, фраза «Так было, так будет» повисла на ниточке исторической тупости. Да оно и понятно: плохие министры часто бывают очень плохими пророками.
Солнцесияние. Курево, чтоб прогнать комаров. Кедровник. Веселые блики от солнца. В вершинах, в хвоях, скачут, как блохи, игривые белки, облюбовывают шишки, где орех посочней. На пеньках, на валежнике, радуясь солнцу, пересвистываются крохотные бурундуки, величиной с котенка.
И двое: Кэтти, Борзятников. Впрочем, вдали – в голубой распашонке красивая Наденька и брюхач Усачев. Жеманно потряхивая глупой головкой, она говорит Усачеву:
– У меня муж толстый, а вы еще толще. Нет, отъезжайте. Не нравитесь. Я одна пойду в лес за цветочками.
Всхрапывают возле дымокура два верховых коня, обмахивается хвостом выпряженная из дрожек кобылка.
Кэтти задорно смеется, Кэтти сегодня не в меру веселая.
– Пейте, Кэтти, ну пейте еще, – подносит к ее бледным губам рюмку с наливкой румяный офицер Борзятников. Полухмельные глаза его охвачены страстью, китайские усы обвисли, на плечах пламенеют золотые погоны. – Прошу вас, пейте...
– Ха-ха-ха!.. Нет, не могу. Сегодня – нет. Ну, как же дальше? Бежит старуха, визжат девицы... Ха-ха-ха!.. Вы вбегаете героем с саблей и... Что же?
– И – вижу...
Рюмка кажет донышко, Борзятников обсасывает обмокшие в вине усы, крякает, делает лицо притворно трагическим.
Кэтти жмется. То с заразительным смехом, то с ярой ненавистью она бросает на него колкие, желчные взгляды.
– Ну-с?.. Ха-ха...
– И – вижу... – пугающим шепотом хрипит офицерик Борзятников, высоко вскидывая густые брови.
Кэтти смеялась заливисто, нервно; вот-вот смех треснет, обернется рыданием. Борзятников выпучил на нее глаза с любопытным испугом: рассказ не так уж смешон, а Кэтти хохочет... Лежавший с закинутыми за голову руками толстяк Усачев от смеха Кэтти проснулся, помямлил губами, грузно встал сначала на карачки, так же грузно поднялся на ноги, со сна потянулся – хрустнули плечи, зевнул, извинился: «Пардон» и пошел на охоту за Наденькой. А Наденька опрометью из лесу навстречу ему:
– Бродяги, бродяги!..
– Где?
– Там! Четверо.
Пересекая небольшую полянку, где сидела компания, неспешно проехал верховой детина. У него за плечами две торбы, ружье (ствол заткнул куделью), в руке грузная плеть. Проезжая – бородатый, безносый, – он покосился на публику, хлестнул коня и скрылся в тайге. За ним пропорхнула собачка.
– Стой! – уж настигал его скачущий, как вихрь, быстрый Борзятников.
Детина осадил лошадь, повернулся к Борзятникову и тоже крикнул гнусаво: «Стой!» А черная собачка сердито взлаяла.
Расстояние меж остановившимися всадниками – шагов шестьдесят. Редкий хвойный лес. Корни столетних кедров огромными пальцами держались за землю. Ковровые мхи, пронизь солнца, пряно пахло смолой.
– Тебе что? Спирту? – загоготал безносый и сплюнул. – Спирт я на золото меняю. А у тебя, вижу, окромя усов, нет ни хрена. Тоже, барин.
– Застрелю!
– Попробуй...
– Сукин сын! Спиртонос! Каторжник...
– А не ты ль, гад, рабочих расстреливал, тайгу опоганил нашу?
Борзятников взбеленился, выхватил револьвер:
– Все пули всажу в лоб, мерзавец!! – Конь заплясал под ним.
– Молись Богу, варнак! – И безносый верзила, чтоб напугать офицера, вскинул на прицел ружье.
Офицерик Борзятников, мотнув локтями, пришпорил коня, весь пригнулся и, стреляя в воздух, заполошно сигнул вбок и – обратно, к своим. Собачка, хрипя от ярости, кидалась к морде его коня. Навстречу, трясясь всем брюхом, скакал Усачев. Просвистела пуля бродяги, ее след прочертился упавшими хвоями. Вдали – грубый, громыхающий хохот и крики в четыре хайла: «Тю! Тю! Тю!..» И все смолкло.
– Трусы! Трусы! – издали резко дразнила их странная Кэтти.
– Пардон... Не трусость, мадемуазель, а благоразумие, – соскочил с коня, заюлил глазами вспотевший Борзятников. – У бродяги ружье... Из ружья, даже из охотничьего, можно уложить пулей на полверсты. А револьвер... что ж...