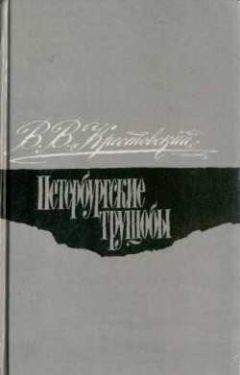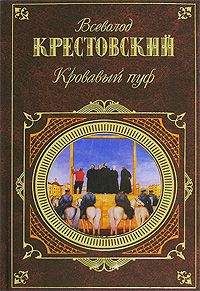LIV
ВЕРЕСОВ НА ВОЛЕ
— Что же мне делать теперь с этими деньгами? — в смущенном раздумьи и не зная, на что решиться, спросил Вересов Рамзю.
— Возьми их, непременно возьми! — с убедительной положительностью присоветовал Рамзя. — Это он грех свой против тебя чувствует, совесть в нем завопияла, так он хоть чем-нибудь хочет помириться с нею, хочет, чтобы ты злости на него не питал. Значит, эти деньги надо принять, — заключил Аким, — потому — примирить человека с совестью его — это, брат мой, великое есть дело христианское.
— Да на дело-то такое дал… почти что на обман, — еще смущеннее возразил Вересов.
Рамзя весьма серьезно углубился в минутную думу.
— Хм… на обман… — тихо заговорил он среди своего раздумья. — Человеку ведь воли хочется… нельзя, чтобы каждый человек первее всего воли себе не хотел… Апостол-то что говорит? «Идеже дух господень, ту свобода». А кто есть сосуд духа божия? Где духу божиьо приличествует пребывать? — в разуме, в сердце, в душе человеческой, брат мой!.. Посему, выходит, человек, а наипаче того христианин, первее всего к воле, к свободе должен устремляться.
И Рамзя на минуту снова погрузился в свое раздумье.
— Обман… в чем же обман?.. Отец твой, бог ему судья, отказался ни за што от сына единокровного… Ты человек неповинный — таково ведь и судия твой следственный мыслит о тебе; сам же он сказал тебе: «Ищи, мол, по себе поручителя». У тебя нет ни друга, ни ближнего, ни знаемого, к кому бы ты мог обратиться в нужде своей и в печали — «коиждой сам о себе да промыслит». Ну, и промысли!.. Ведь ты не убежишь, не уворуешь и зла ниже какого не сделаешь, а будешь же ведь мирно да тихо жить на воле — поручителю через свое озорство тоже зла не принесешь ни мало; отчего ж тебе и не нанять его?.. Дело полюбовное, добровольное… Обман… хм… обман, друже мой, там, где человек через обман зло творит себе и ближнему! — с силой искреннего убеждения заключил Рамзя.
Вересов крепко задумался. Он был побежден своеобразной логикой Рамзи, слова которого дышали такой энтуазистической верой и убеждением, да притом воли-то вольной уж больно сильно хотелось ему — и он решился.
Выписав на клочке бумаги свое имя и звание, он вручил его, вместе с полтинником, тюремному солдату и объяснил свою надобность.
— А в какой части дело-то? — спросил тот.
Вересов назвал.
— То-то!.. это надо знать, потому — поручитель допрежь того в часть должен объявиться о желании своем. Ладно, будет сделано! — утешил его тюремный воин и в тот же день, улучив удобную минуту, смахал к Пахому Борисычу Пряхину.
— Арестант-то бедный или богатенький? — осведомился поручитель.
— Голяк! — махнул рукою воин.
— Э, брат, это, выходит, игра свеч не стоит!
— Чего не стоит!.. Деньги все едино получите: три-то рубля на улице ведь не валяются.
— Да что… Кабы он богатенький был, так можно бы этак взять, через месяц отказаться: не ручаюсь, мол, по неблагонадежности.
— Да на што же это?
— А на то, что он тогда опять заплатит, только не отказывайся, значит. Этак бы и тянуть с него оброчек за каждый-то месяц.
— Так-с, губа-то у вас не дура, да все же это не рука нам. Коли не хотите, так и не надо: к другому пойду. Вашего брата ведь довольно шатается! А от такого арестанта никто не откажется, потому — человек он смирный, обиды от начальства уж за него-то не наживешь. Это верно.
Пряхин опешил от столь крутого поворота и тотчас согласился, на том основании, что три рубля и в самом деле на улице не валяются.
Дня через четыре Вересову приказали сдать казенное серое платье, взамен которого выдали ему из цейхгауза его собственное, и тюремный фургон в последний уже раз отвез арестанта к следственному приставу.
— Который из вас тут на поруки-то просится? — таинственно и украдкой спросил Пахом Борисыч, когда конвойный привел Ивана Вересова, вместе с другим подследственным, в прихожую следственной камеры.
— Я… А что?
— Приятно познакомиться… Я — твой поручитель: господин Пряхин, губернский секретарь в отставке. Деньги-то теперь заплатишь мне, что ли?
— Не давай теперь, — толкнул подследственный локтем своего острожного сотоварища, — это, брат, стрикулист, возьмет, пожалуй, да и поминай как звали, а он пущай прежде поручится, тогда и отдашь.
— Ишь, тюремная крапива… — злобственно прошипел поручитель, отходя в сторону.
— Эва, как окрысился! Верно, в самую центру попал! — самодовольно ухмыльнулся подследственный.
Четверть часа спустя Пахом Борисыч дал подписку в поручительстве и вместе с освобожденным Вересовым спустился с лестницы частного дома.
— Ну, давайте же теперь условленное! — нетерпеливо остановил он внизу своего поручейника, вдруг меняя с ним ты на вы.
Тот с благодарностью отдал ему деньги.
— Хи-хи-хи… — слюняво и с присвистом засмеялся старичонко, ощущая необыкновенную приятность при виде ассигнации. — А если бы вы мне не отдали, я бы сейчас вернулся и отказался бы от поручительства. Хи-хи-хи… так то-с!.. А теперь — вот вам для памяти адрес мой, для того, что если вы себе изберете место жительства, то немедленно уведомьте: я должен это знать на всякий случай.
Вересов обещал ему.
— Ну-с, желаю наслаждаться всеми благами, — приподнял старичонко свою котиковую шапку. — Смотрите же, не обидьте меня, старичка беспомощного! Я по христианскому чувству, сжалился над вами, потому — это мой долг, в некотором роде для души спасения… посильная помощь страждущему человечеству… ну, и… прочее… Так уж вы, пожалуйста, обитайте себе смирненько, тихенько, богобоязненно, чтобы меня тово… под ответственность как-нибудь не подвести. Прощайте-с!
И они разошлись в разные стороны.
Вересов радостно вздохнул полною грудью, когда наконец остался один, — один совершенно. Он только теперь почувствовал свободу. Не в силах сдержать широкой радостной улыбки, пошел он без цели, куда глаза глядят, и пошел таким твердым и быстрым шагом, как будто его подталкивала и влекла какая-то сверхъестественная сила. Ему весело идти, куда хочет, идти без отчету, по своей собственной воле, весело ощущать даже самое это движение, глядеть на свободные, здоровые лица встречных людей, окунуться в этот водоворот уличной жизни и совсем потеряться, исчезнуть в нем. На каждую улицу, на каждый дом он глядел теперь как на нечто новое или как на старинного своего друга, с которым бог весть сколько времени не видался. А и времени-то, в сущности, немного ведь прошло с тех пор, как арестовали его — не более какого-нибудь месяца; но как, однако, в этот месяц изменился Вересов, как его пришибла и принизила недобрая доля!.. Теперь это были первые минуты, когда он забылся, под обаянием радостного, счастливого чувства свободы. Он все шел и шел, улыбался и глядел на все такими любопытными глазами, будто жаждал наглядеться на весь мир божий, и весь этот мир божий желая обнять, как брата, радостно кинуться ему навстречу и любить, любить его крепко и много… Но усталость наконец взяла-таки свое. Вересов остановился и огляделся вокруг. Присесть хочется — негде присесть, надо идти поневоле. Голод почувствовал — нечем утолить его… в кармане ни копейки, а даром есть не дадут… Жаль тюрьмы: там была своя койка и щи-серяки тоже были. Здесь теперь — воля, и нет ни того, ни другого.
Он опять пошел без цели, только уже не так радостно и быстро, как за несколько часов перед этим.
Начинало темнеть; по улицам фонари зажигались. Тысячи роскошных, блестящих магазинов заблистали газовыми огнями. Вон целый ряд фруктовых и бакалейных лавок, сквозь стекла которых так вкусно и заманчиво глядят всевозможные роскошные снеди: сыры, копченое, жирные пате и маринады, а там — ананасы да кустики земляники в горшочках да фрукты разные. «Хорошо жить на свете!» — с горькой улыбкой промелькнуло в голове Вересова, когда остановился он перед соблазнительным окном такой лавки, и долго рассматривал все эти вкусности, один вид которых голодно поводил мускулы его губ и щек и сдавливал скулы, заставляя глотать слюнки, вызываемые волчьим аппетитом. Вересов стоял, глядел и дрогнул на ветру; а голод меж тем все сильнее и сильнее начинал донимать его. По улицам проносилось множество экипажей. Сыны Марса в белых и красных шапках и привилегированные сыны биржи да изящных салопов в бобрах и соболях гнали во весь дух своих статных рысаков, стараясь во что бы то ни стало обогнать друг друга и паче того — обогнать какую-нибудь блестящую камелию, которая, с шиком закутавшись в богатую черно-бурую медвежью полость, нагло мчится сломя голову, развалясь в своем экипаже.
В воздухе становилось холоднее — к ночи, должно быть, добрый морозец станет, а у Вересова пальтишко одним божьим ветром подбито… Остановился он посреди тротуара и с мутящей, голодной тоской огляделся во все стороны. Куда ж идти, что делать, где приютиться, где обогреться ему? Идти — куда хочешь, а приютиться… тоже где хочешь: город велик и пространен.