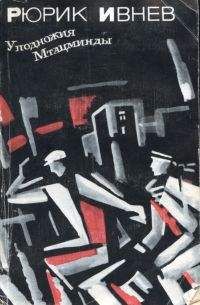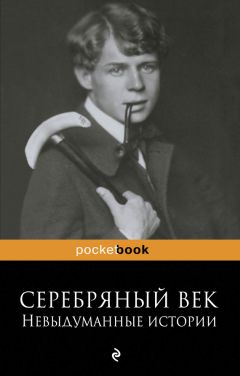Публика, находившаяся в кафе, узнав Есенина, начала с любопытством наблюдать за ним. Это не могло ускользнуть от Есенина. Играя перчатками, как мячиком, он говорил мне:
— Ты еще не обедал? Поедем обедать? Где хорошо кормят? В какой ресторан надо ехать?
— Сережа, пообедаем здесь, в «Стойле». Зачем куда–то ехать?
Есенин морщится.
— Нет, здесь дадут какую–нибудь гадость. Куда же поедем? — обращается он к Шнейдеру.
Кто–то из присутствующих вмешивается в разговор:
— Говорят, что самый лучший ресторан — это «Эрмитаж».
— Да, да, «Эрмитаж», конечно, «Эрмитаж», — отвечает Есенин, как будто вспомнив что–то из далекого прошлого.
Айседора Дункан улыбается, ожидая решения. Наконец все решили, что надо ехать в «Эрмитаж». Теперь встает вопрос, как ехать.
— Ну конечно, на извозчиках. Начинается подсчет, сколько надо извозчиков.
— Я еду с Рюриком, — объявляет Есенин. — Айседора, ты поедешь…
Тут он умолкает, предоставляя ей выбрать себе попутчика. В результате кто–то бежит за извозчиками, и через несколько минут у дверей кафе появляются три экипажа. В первый экипаж садятся Айседора с Ирмой, во второй Шнейдер с кем–то еще. В третий Есенин и я.
По дороге в «Эрмитаж» разговор у нас состоял из отрывочных фраз, некоторые из них мне запомнились.
Почему–то вдруг мы заговорили о воротничках.
Есенин:
— Воротнички? Ну кто же их отдает в стирку! Их выбрасывают и покупают новые.
Затем Есенин заговорил почему–то о том, что его кто–то упрекнул (очевидно, только что, по приезде в Москву) за то, что он, будучи за границей, забыл о своих родных и друзьях. Это очень расстроило его.
— Все это выдумки — я всех помнил, посылал всем письма, домой посылал доллары. Мариенгофу тоже посылал доллары.
После паузы добавил:
— И тебе посылал, ты получил?
— Я, хотя я ничего не получал, ответил:
— Да, получил.
Есенин посмотрел на меня как–то особенно растерянно, но через несколько секунд забыл об этом и перевел разговор на другую тему.
По приезде в «Эрмитаж» начались иные волнения.
Надо решить вопрос: в зале или на веранде? Есенин долго не мог решить, где лучше. Наконец выбрали веранду. Почти все столики были свободны. Нас окружили официанты. Они не знали, на какой столик падет наш выбор.
— Где лучше, где лучше? — поминутно спрашивал Есенин.
— Сережа, уже все равно, где–нибудь сядем, — говорил я.
— Ну хорошо, хорошо, вот здесь, — решает он, но, когда мы все усаживаемся и официант подходит к нам с меню в папке, похожей на альбом, Есенин вдруг морщится и заявляет: — Здесь свет падает прямо в лицо.
Мы волей–неволей поднимаемся со своих мест и направляемся к очередному столику.
Так продолжалось несколько раз, потому что Есенин не мог выбрать столик, который бы его устраивал. То столик оказывался слишком близко к стеклам веранды, то слишком далеко, Наконец мы подняли бунт и не покинули своих мест, когда Есенин попытался снова забраковать столик.
Во время обеда произошло несколько курьезов, начиная с того, что Есенин принялся отвергать все закуски, которые были перечислены в меню. Ему хотелось чего–нибудь особенного, а «особенного» как раз и не было.
С официантом он говорил чуть–чуть ломаным языком, как будто разучился говорить по–русски.
Несмотря на все эти чудачества, на которые я смотрел как на обычное есенинское озорство, я чувствовал, что передо мной прежний, «питерский» Есенин.
Во время обеда, длившегося довольно долго, я невольно заметил, что у Есенина иногда прорывались резкие ноты в голосе, когда он говорил с Айседорой Дункан. Я почувствовал, что в их отношениях назревает перелом.
Вскоре после обеда в «Эрмитаже» я посетил Есенина и Дункан в их особняке на Пречистенке (ныне ул. Кропоткина), где помещалась студия Дункан (во время отсутствия Дункан студией руководила Ирма). Айседора и Есенин занимали две большие комнаты во втором этаже.
Образ Айседоры Дункан навсегда останется в моей памяти как бы раздвоенным. Один — образ танцовщицы, ослепительного видения, которое не может не поразить воображения, другой — образ обаятельной женщины, умной, внимательной, чуткой, от которой веет уютом домашнего очага.
Это было первое впечатление от первых встреч, от разговоров простых, задушевных (мы обыкновенно говорили с ней по–французски, так как английским я не владел, а по–русски Айседора говорила плохо) в те времена, когда не было гостей и мы сидели за чашкой чая втроем — Есенин, Айседора и я. Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и всё или почти всё, что таилось в душе… Это хорошо понимал Есенин, он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Айседору:
— Она все понимает, все, ее не проведешь.
Дункан никогда не говорила мне в глаза, но Мариенгоф и некоторые другие передавали, что больше всех и глубже всех любит «ее Есенина» Риурик — так она произносила мое имя. Не знаю, чем я заслужил такое трогательное внимание ко мне. Первое время ни о каких литературных делах с Есениным мы не говорили, но «жизнь брала свое», и вот начали строиться разные планы.
Шли разговоры о необходимости устроить грандиозный вечер в тогдашней «цитадели поэзии» — Политехническом музее. Нашлись, конечно, и устроители, и импресарио, и администраторы. Мариенгоф настоял, чтобы вечер был устроен под «флагом имажинистов». Есенин в ту пору еще не успел охладеть к этой школе и согласился.
И вот вскоре по всему городу запестрели огромные афиши, извещающие о «вечере имажинистов», на котором приехавший из–за границы Сергей Есенин поделится с публикой своими впечатлениями о Берлине, Париже и Нью–Йорке и прочтет свои новые стихи.
…24 августа 1923 года, задолго до назначенного часа, народ устремился к Политехническому музею. Здание музея стало походить на осажденную крепость. Отряды конной милиции едва могли сдерживать напор толпы. Люди, имевшие билеты, с величайшим трудом пробирались сквозь толпу, чтобы попасть в подъезд, плотно забитый жаждущими попасть на вечер, но не успевшими приобрести билеты. Участники пробирались с не меньшим трудом.
Но вот вечер наконец начался.
Председатель объявил, что сейчас выступит поэт Сергей Есенин со своим «докладом» и поделится впечатлениями о Берлине, Париже, Нью–Йорке. Есенин, давно успевший привыкнуть к публичным выступлениям, почему–то на этот раз волновался необычайно. Это чувствовалось сразу, несмотря на его внешнее спокойствие. Публика встретила его появление на эстраде бурной овацией. Есенин долго не мог начать говорить. Я смотрел на него и удивлялся, что такой доброжелательным прием не только не успокоил, но даже усилил его волнение. Мною овладела какая–то неясная, но глубокая тревога.
Наконец наступила тишина, и в зале раздался далеко не уверенный голос Есенина. Он сбивался, делал большие паузы. Вместо более или менее плавного изложения своих впечатлений Есенин произносил какие–то отрывистые фразы, переходя от Берлина к Парижу, от Парижа к Берлину. Зал насторожился. Послышались смешки и пока еще негромкие выкрики. Есенин махнул рукой и, пытаясь овладеть вниманием публики, воскликнул:
— Нет, лучше я расскажу про Америку. Подплываем мы к Нью–Йорку. Навстречу нам бесчисленное количество лодок, переполненных фотокорреспондентами. Шумят моторы, щелкают фотоаппараты. Мы стоим на палубе. Около нас пятнадцать чемоданов — мои и Айседоры Дункан…
Тут в зале поднялся невообразимый шум, смех, раздался иронический голос:
— И это все ваши впечатления?
Есенин побледнел. Вероятно, ему казалось в эту минуту, что он проваливается в пропасть. Но вдруг он искренне и заразительно засмеялся:
— Не выходит что–то у меня в прозе, прочту лучше стихи!
Я вспомнил наш давнишний разговор с Есениным весной 1917 года в Петрограде и его слова: «Стихи могу, а вот лекции не умею».
Публику сразу как будто подменили, раздался добродушный смех, и словно душевной теплотой повеяло из зала на эстраду. Есенин начал, теперь уже без всякого волнения, читать стихи громко, уверенно, со своим всегдашним мастерством. Так бывало и прежде. Стоило слушателям услышать его проникновенный голос, увидеть неистово пляшущие в такт стихам руки и глаза, устремленные вдаль, ничего не видящие, ничего не замечающие, как становилось понятно, что в чтении у него нет соперника. После каждого прочитанного стихотворения раздавались оглушительные аплодисменты. Публика неистовствовала, но теперь уже от восторга и восхищения. Есенин весь преобразился. Публика была покорена, зачарована, и если бы кому–нибудь из присутствовавших на вечере напомнили про беспомощные фразы о трех столицах, которые еще недавно раздавались в этом зале, тот не поверил бы, что это было в действительности. Все это казалось нелепым сном, а явью был триумф, небывалый триумф поэта, мгновенно покорившего зал своими стихами. Все остальное, происходившее на вечере: выступления других поэтов, в том числе и мое, — отошло на третий план. После наших выступлений снова читал Есенин. Вечер закончился поздно. Публика долго не расходилась и требовала от Есенина все новых и новых стихов. И он читал, пока не охрип. Тогда он провел рукой по горлу, сопровождая этот жест улыбкой, которая заставила угомониться публику.