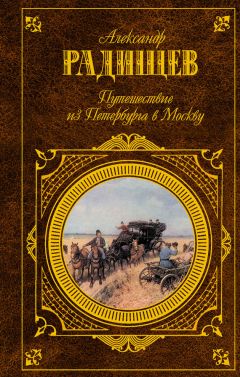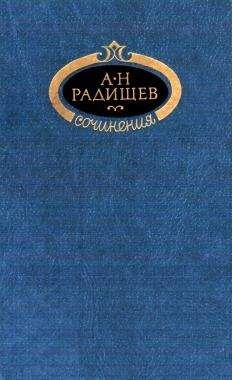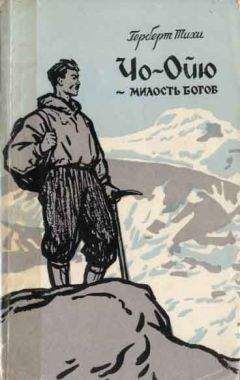Наблюдая за сидящими и расхаживающими в зале, он ещё больше в этом убеждался. Сановитые чиновники были подтянуты и строги. Большинство их приехало из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Они видели столичный свет и с явным высокомерием относились к местным жителям. Они считали себя в Тобольске временными жильцами. Служба обязывала их жить здесь, и они, скрепя сердце, мирились с этим год, два, три. Это была небольшая группа людей, державшаяся обособленно на службе и в обществе.
Всё это понял Радищев, изучая шумевший пёстрый зал. Как ни старался сам он остаться незамеченным, его заметили из зала. Взоры устремились на губернаторскую ложу. В головах многих мелькнуло: «Государственный преступник и вдруг там, где восседает его высокопревосходительство?!» Одно это могло послужить предлогом к различным толкам и суждениям и совсем запутать представление о Радищеве. Его рассматривали пристально и внимательно. Волнистые, слегка седые волосы, откинутые назад, открывали высокий, чистый лоб, а смугловатое лицо изгнанника было приветливо и благородно.
Играли комедию «Мельник». Радищев следил за искусством актёров, был обрадован и изумлён умелым, правдивым изображением персонажей комедии, которую некогда показывали в Эрмитаже.
Приподнятое настроение Радищева не ускользнуло от Натали Сумароковой, не спускавшей с него маленького изящного лорнета. Сердце Натали при мысли, что брат познакомит её с Радищевым, учащённо билось. Панкратий Сумароков рассказал сестре о встрече с петербургским гостем. Она знала о нём гораздо больше, чем все сидящие в зале.
Панкратий Сумароков заметил Радищева и, указывая на ложу, сказал:
— В антракте будем у него.
Натали молчаливо пожала руку брата, выражая этим нескрываемую радость. Её охватило большое волнение. Она нетерпеливо ждала антракта и подбирала слова, какие скажет, когда Панкратий представит её Радищеву. И казалось, что в эту минуту нет для неё ничего важнее и значительнее.
— Душно мне, — проговорила Натали по-французски и распахнула японский веер, похожий на лотос. Брата коснулась свежая струя воздуха и духов. Он глубоко вздохнул и продолжал следить за сценой.
В антракте Сумароковы прошли к Радищеву в ложу. Сумароков представил сестру. Натали сделала реверанс. Александр Николаевич почтительно склонил голову и улыбнулся. У Натали мелькнула мысль, что он угадал её замешательство, но сделал вид, будто ничего не заметил.
Приветливый взгляд Радищева задержался на Сумароковой. Глаза их встретились. Длинные ресницы Натали дрогнули, взор потупился. Яркий румянец проступил на её щеках. Девушка распустила веер, слегка прикрыла им лицо, чтобы на мгновение скрыть себя от больших, словно пронизывающих глаз Радищева.
И хотя взгляды их встретились только на миг, Натали успела многое прочесть на его выразительном лице. «Каким пламенем горел этот творческий светильник, этот гений», — подумала она и опять взглянула на Радищева, боясь в то же время встретиться с ним глазами.
— Каков наш Доримедонт в Фадее? — спросил Панкратий Платонович.
Александр Николаевич похвально отозвался об актёре, исполнявшем роль мельника.
— Лучший актёр! Это не Волков и Дмитриевский, о которых шумят «Санкт-Петербургские ведомости», но играет с душой.
— А разве Лефрень в Анюте плоха? — чуть обиженно сказала Натали, — какая гамма чувств!
— Да, да! — согласился Радищев.
— А всё же наскучило смотреть одно и то же, — откровенно заметила Натали, — как бы я послушала сейчас Мандини и Габриэли.
Александр Николаевич знал этих знаменитых актёров эрмитажного театра. Красавец Мандини обворожил столицу своим баритоном.
— Мандини прелестен, — сказал Радищев, — дамы двора от него в восторге, особенно княгиня Долгорукова, а Габриэли… — Он взглянул на Сумарокову, смотревшую на него удивлённо и выжидающе, и вдруг неожиданно заключил:
— Я предпочитал слушать Сандунову…
— Почему? — спросила Натали.
— Она поёт теплее, сердечнее.
— Правду ли сказывают, — спросил Сумароков, — будто после того, как Чимарозо предложил этой итальянской певице поехать в Россию, она запросила двенадцать тысяч рублей жалованья в год?
Александр Николаевич пожал плечами.
— Тот, говорят, ответил, — продолжал Сумароков, — что русские фельдмаршалы не получают такого жалованья. «Ваша великая государыня может делать фельдмаршалов сколько ей угодно, — надменно сказала певица, — а Габриэли одна на свете»… Каково?!
— Это злословят те, кто от неё без ума, — сказала Натали.
За кулисами ударили в гонг. Натали вздрогнула от неожиданности. В партер вошёл франт, и Радищев спросил у Сумарокова, кто этот молодой человек.
— Иван Иванович Бахтин, — ответил Панкратий Платонович, — наш прокурор, сочиняет вирши для «Иртыша».
Молодой франт на этот раз нарочито близко прошёл мимо губернаторской ложи, чтобы почтительно склонить голову в ответ на приветствие Сумарокова и поближе взглянуть на Радищева.
Натали взяла брата под руку. Они откланялись и вышли. Радищев был под впечатлением нового знакомства. Сумарокова понравилась ему. Она была мила. Он поймал себя на мысли, что шелест шёлкового платья, огонёк чёрных, вдумчивых глаз, румянец застенчивости Сумароковой запомнились ему.
Сумароковы больше не заходили, но весь остаток вечера, до окончания комедии и возвращения в гостиницу, Радищев находился под впечатлением знакомства с Натали Сумароковой.
4
С каждым днём Александр Николаевич всё более знакомился с городом, с его обществом. Радищев не мог пожаловаться на пребывание в Тобольске. Иногда ему казалось, что он был равноправным среди тобольцев российским гражданином. У него было много знакомых и с каждым днём становилось всё больше. Частые встречи с ними рассеивали впечатление ссылки. У него оказалось достаточно времени, чтобы не только ближе узнать людей и город, но глубже понять окружающую обстановку, задуматься над ней и осмыслить всё по-новому.
Прибыли нарочные курьеры от иркутского генерал-губернатора Пиля. Обогнавшая Радищева в пути почта доставлялась в обратном направлении — из Иркутска в Тобольск. Это были письма, газеты и книги, присланные ему Воронцовым.
Иркутский наместник также проявлял интерес к Радищеву. Его высокопревосходительство не только учтиво препровождал почту со своими курьерами, но и сам справлялся о здоровье Александра Николаевича и сроках его выезда из Тобольска.
Радищев догадывался, что милости эти и заботы о нём проявлялись лишь потому, что они в первую очередь исходили от самого Воронцова. Не будь последнего, не таков был бы приём у сибирских наместников.
И однако Александр Николаевич не был спокоен: воля его оставалась скованной. В часы досуга он раздумывал о своём житье-бытье. Радищев спрашивал себя: сколь длительна будет такая свобода общения? Все десять лет его ссылки не могли быть такими.
Своё свободное время Радищев посвящал чтению. Книги, присланные Воронцовым, были уже прочитаны, а его всё тянуло и тянуло углубиться в них, окунуться в чужую жизнь и далёкие события, чтобы меньше думать о своей. Литературу он брал и в небольшом книгохранилище тобольского главного народного училища. Книги охотно давал ему Панкратий Сумароков. У него были новейшие издания на русском, французском и немецком языках.
Радищев всё лучше и лучше узнавал Сумарокова и его сестру. Брат с сестрой были «любителями наук», оба занимались переводами и стихосложением. Александр Николаевич бывал у них дома.
Кабинет Сумарокова был прост, но, едва переступив порог этой творческой обители, Радищев подумал, с каким бы наслаждением он окунулся сейчас в работу. Письменный стол Панкратия Платоновича был завален бумагами, тюбиками с краской, цветными карандашами и кистями. Книжный шкаф с зеркальным стеклом забит книгами в богатых переплётах. На стенах размещались акварельные и карандашные рисунки хозяина, сделанные изящно и талантливо. Много было миниатюрных портретов и среди них — портрет Натали.
Радищев в первый же раз провёл здесь несколько часов в дружеской беседе. Натали появилась вся зардевшаяся, в простеньком домашнем платье, с накидкой на плечах, она подала им горячий кофе и тут же ушла.
Прежде всего они заговорили о журнале. Их обоих волновало его издание. Александр Николаевич успел прочитать вышедшие номера ежемесячника, и ему хотелось высказать Сумарокову своё мнение.
— Не обессудьте за правоту моих слов, Панкратий Платонович, ежели скажу о журнале, что думаю…
— Какая может быть обида, журнал — дитя культуры нашей, ещё в младенческом возрасте.
Радищев сказал, что думал:
— Россиян должно приучать к уважению своего собственного. Оно не хуже иноземного. «Иртыш» заполнен переводами. К чему такое угождение чужим?