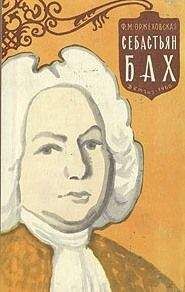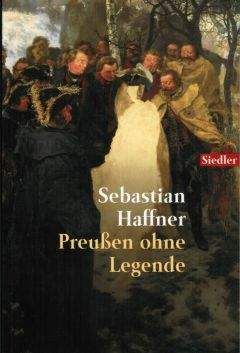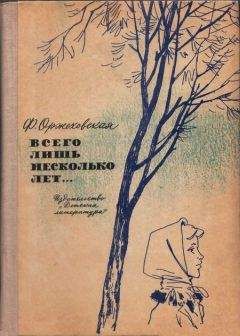Бах и прежде бывал в Гамбурге, но никогда еще этот город не казался ему таким красивым. За окнами высоких домов, где висели люстры, гобелены, венецианские зеркала, должно быть, жилось привольно и счастливо. Он зашел в церковь попробовать звук органа, на котором будут играть участники состязания. Орган оказался превосходным.
Чтобы не остаться одному, Бах отправился в оперу. Но ни яркий свет, ни шум оживленной толпы не могли рассеять неотвязное видение: свежую могилу и небольшой холм на ней. Дочь Кетхен терзалась, что дала увести себя и братьев в предсмертные часы матери. Ей сказали, что опасности нет и они еще увидятся. Но никто не увидел Марию-Барбару. Никого из близких не было возле нее, умирающей, и чужая рука закрыла ей глаза.
Но, может быть, это к лучшему, что дети будут помнить ее веселой и здоровой?
… Напрасно он пришел сюда. В толпе чувствуешь себя еще более одиноким.
Насколько он помнил, она никогда не хворала. А лихорадка пощадила многих. Почему же не ее? Значит, была предпосылка для этого несчастья! Когда человек тоскует, любой пустяк может свалить его с ног, не то что эпидемия…
Умереть так рано! Оставить детей! Он думал все об одном и том же подобно тому злосчастному парню, о котором рассказывали в Эйзенахе:
Ульрих едет и долгую песню поет
О раскаянии, муке суровой
И, когда он ее до конца допоет,
Начинает затягивать снова…
… Нет, она не была счастлива! А он сам? Но по отношению к умершей такие мысли недопустимы, преступны, и ему удалось прогнать их.
В театре ставили оперу Георга Телемана «Муки Сократа». И, как обычно в гамбургской опере, серьезный сюжет нарушался грубыми, шутовскими сценами. Национальная гамбургская опера, единственная во всей Германии, где стойко сопротивлялись итальянскому нашествию, привлекала многочисленную публику. Но, чтобы привлечь ее еще сильнее, директор, «великий Кайзер», ввел эту моду – выворачивать наизнанку положения и характеры. Героика оборачивалась шуткой, торжественное прерывалось забавным и вообще уже не оставалось ничего святого. Так и мученичество Сократа, изображенное вначале драматично, было высмеяно во втором действии благодаря женскому дуэту. Ибо для пущего комизма Сократа снабдили не одной сварливой женой, а двумя, одинаково злыми и крикливыми. И потасовка двух крикуний на фоне ревущего оркестра была встречена пылко: в зале стонали, захлебывались, взывая: «Виват! Бей ее, Ксантиппа! Смелее!» В театре вообще не стеснялись во время исполнения. То и дело слышалось: «Веселее, Франц, не зевай!» Равнодушных не было, а если пьеса не нравилась, то попросту прогоняли, актеров. В сцене Ксантиппы и ее соперницы участвовала вся публика. И вскоре не стало слышно оркестра.
Опера не развеселила Баха, и после второго действия он поднялся и ушел…
По дороге он думал о композиторах гамбургской оперы, чья изобретательность явно истощалась. Дело шло к упадку. Выставлять такого человека, как Сократ, на посмеяние толпы – значит, причинить ей же самой непоправимый вред…
На улице было мало прохожих. Фонари едва горели. Было холодно. В гостинице плохо топили. Но, утомленный предыдущей бессонной ночью, Бах кое-как заснул.
На другой день в церкви святого Якоба он увидал многих музыкантов и в первую очередь Иоганна Матесона – композитора, теоретика, певца, литератора, а также юриста и архитектора – все в одном лице! Это его шестнадцать лет назад почтила вниманием угрюмая Маргрета, дочь великого органиста Бухстехуде. Матесон отверг ее, отказавшись от выгодной службы. Теперь об этом знали все, так как Матесон описал свое пребывание в Любеке в недавно опубликованной автобиографии, прибавив также, что и молодой Гендель не пожелал жениться на кикиморе. Матесон описал также и свою дуэль с Генделем, не из-за Маргреты, конечно, и даже не из-за женщины, а из-за славы.
Что сталось с дочерью Бухстехуде, Бах не знал… Одно время он после своей женитьбы писал ей, но ответа не получил. По одним слухам, сбылись худшие опасения Маргреты: преемник отца выжил ее из дому и, подкупив судей, завладел ее состоянием. По другим сведениям, она все-таки вышла замуж, но не за музыканта, а за аптекаря, который пошел в гору благодаря уцелевшему приданому. Как бы там ни было, Бухстехуде к тому времени, и к счастью для него, уже не было в живых.
Все еще изящный и стройный, Матесон стоял у колонны, окруженный почитателями, и рассказывал о себе. Он всегда рассказывал о себе. О чем бы ни говорили в его присутствии, пусть даже о церковных ладах, всегда получалось так, что Матесон играл в событии главную роль. И древнегреческие лады имели к нему прямое отношение, ибо он написал о них трактат. Значение Гомера также весьма усиливалось оттого, что Матесон в свое время занимался разбором «Одиссеи».
До Баха дошли его слова:
– Если хотите знать, то именно я выгнал итальянцев из театра и могу сказать всем подобным: «Вон, варвары!»
Регент школы святого Фомы в Лейпциге, Иоганн Кунау, сам написавший остроумный роман против итальянского засилья, слушал Матесона с насмешливым видом. Он знал цену Матесону, не прощал ему его слабостей, но был с ним очень любезен. С такой же преувеличенной любезностью раскланялся он с другим композитором– Георгом Телеманом. То был давнишний соперник Кунау. Семнадцать лет назад, когда молоденький студент Телеман только появился в Лейпциге, Иоганн Кунау, церковный регент, руководил студентами, составлявшими добровольный хор и оркестр. Казалось бы, и Телеман должен был к ним присоединиться. Но мальчишка завел в университете свой музыкальный кружок, поманил студентов Кунау, и те побежали за молокососом, как гамельнские ребята за крысоловом [17]. И Кунау остался без хора и оркестра, так что пришлось удовольствоваться безголосыми любителями, которых прислал магистрат. Но мало этого: в том же тысяча семьсот четвертом году Телеману пообещали место регента в церкви святого Фомы как только представится возможность, ибо нынешний регент «слаб здоровьем». Каковы нравы! Но покровители Телемана просчитались: ему пришлось ждать семнадцать лет, и еще придется – Иоганн Кунау не собирается освободить место!
До Баха дошли слухи об этом скрытом поединке, но он не обвинял Телемана. Кунау он знал как автора программных библейских сонат, Телемана – как разностороннего и плодовитого композитора. Стоило ли им ссориться из-за места! Правда, Телеман был настолько привлекательной личностью – пожалуй, более привлекательной, чем талантливой, – что все невольно тянулись к нему и старались сделать для него что-нибудь приятное. Его предпочитали блестящему Матесону. Неглубокий, нетребовательный и именно в силу этого всюду терпимый и всем приятный, Телеман умел пленять своим чудесно легким характером. Его непритязательная откровенность нравилась всем. Он, так же как и Матесон, много говорил о себе, но без хвастовства и высокомерия, не скрывая своих слабостей и искренне каясь в них.
И музыка Телемана была похожа на него самого: легкая, мелодичная, изящная и неглубокая. Ее было слишком много, и часто она напоминала что-то очень знакомое, но скучных страниц у него не попадалось, встречались места, полные очарования, особенно в кантатах. И Бах с удовольствием переписывал эти страницы.
Он не знал, как относится к нему Телеман. Но помнил, как совершенно неожиданно, приехав как-то в Эйзенах и узнав, что у Баха родился сын, Телеман предложил себя в крестные отцы. И во время церемонии и после нее он держался с такой милой простотой, в меру шутливо, в меру торжественно, что очаровал всю семью. А потом уехал и долго не напоминал о себе.
Телеман приблизился к Баху своей легкой походкой.
– Я держал пари с Матесоном, что именно вы получите первую премию, – сказал он, ласково сощурив выпуклые глаза, – Матесон полагает, что вторую. Это тоже не плохо: место помощника органиста. Но я верю в другое.
– Благодарю, – отвечал Бах, – но не все от нас зависит. И притом…
– А как поживает мой крестник? – прервал его Телеман, еще ласковее сощурившись.
У него была привычка внезапно обрывать собеседника, и это уязвляло Баха. Но, поскольку речь зашла о сыне, он собирался ответить обстоятельно.
– Благодарю. Эммануил делает большие успехи. На клавесине играет совсем хорошо, а на скрипке…
– Много народу сегодня, не правда ли? – снова прервал его Телеман. – Всех привлекло состязание!
И, обведя глазами зал, он воскликнул:
– Все-таки явился! Глядите!
Это восклицание относилось к Рейнкену, 96-летнему «патриарху» органистов. Для него в первом ряду поставили особое кресло. Его зрение и слух настолько сохранились, что он посещал концерты, чтобы полюбоваться на своих «детей», «внуков» и «правнуков». С его прибытием воцарилась тишина, но сам Рейнкен нарушил ее: еще до того как музыканты почтительно усадили его на место, он приблизился к ним, стуча палкой, и хоть руки у него дрожали, а длинная седая борода приобрела зеленоватый оттенок с тех пор, как Бах видел его в Галле, он громко и отчетливо произнес: