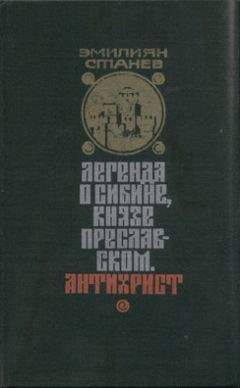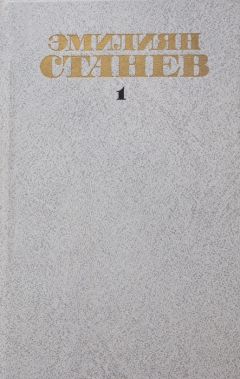Смеркалось, кончилась ярмарка и гулянье. Гости собирались разъезжаться. Старец приказал мне подмести в келье и подлить в лампаду свежего елея. Деревянным гребнем расчесал бороду и волосы, сел на пень, привалился спиной к стене. «Пускай прогоняют, — говорит. — Разыщу Хелбю, он меня без куска хлеба не оставит. Но чтоб вернули мои денежки, не то пусть не удивляются, коль в один прекрасный день вспыхнет лавра огнем и все они живьём сгорят… С каких пор склоняю этого дурня пустить красного петуха…» «Что говоришь ты, святой отец?» — восклицаю я и крещусь, потрясенный. А он: «Много размышлял я о пользе от греков, об их лжи. Пусть лучше не обманывают народ, будто видели они Господа. Грешен я, чадо, очень грешен, но правда, похоже, на моей стороне, будь я проклят!..» Я заткнул уши и пошел вон из кельи, чтобы не слушать его. Через какое-то время слышу шаги и вижу, что сам Теодосий идёт к нам, постукивая деревянным своим посохом.
«Святой старец один идет сюда», — говорю отцу Луке. Он изумленно воззрился на меня, буркнул: «Не к нам идет он. В скит свой идет. Быть того не может. Не открывай ему…» — и крестится. В дверь постучали. Я отворил. На меня смотрели светлые глаза, умиротворявшие кроткой веселостью, без укора, без хмури. Он благословил и вошел так, будто и вчера был у нас, потом поклонился в пояс. Отец Лука уставился в пол. Святой старец задержался взглядом на мне, улыбнулся и легонько постучал посохом. И точно звон маленького колокола прозвучал его голос, спокойный, но проникавший в самую душу. «Не думай, — говорил он, — что пришел я, дабы покарать тебя, брат Лука. По велению Христову я здесь, чтобы прощенья у тебя просить, отче. Виновен я пред тобой за то, что, зная о делах твоих, не навещал тебя и сим упущением оскорбил. Мы, собранные во имя Христово, подобны стройному лесу, где всякое дерево в бурю и ветры поддерживает другое. Но ты, зная, что ежечасно борешься с грехами своими, отчего не искал ни у кого духовной поддержки? В видениях, ниспосланных мне через благодать божью, видел я, как вопиет душа твоя о свете и рае, а разум единоборствует с Богом и внемлет дьяволу, Если не разумом, то сердцем понял ты, что человек алчет просветления и от жажды и нетерпения познать тайны господни приходит к отрицанию и злу. Буйные нравом, отрицая, сами низвергают себя в темень адову и запутываются в сетях Лукавого. Поступаешь ты подобно осужденному, что отрицает закон и судью и не хочет раскаяться. Неужто забыл ты исповедь свою, когда приняли мы тебя в свою обитель? Многие из злодейств разбойника Витана утаил ты, ибо не осмелился признаться в них, а ныне терзают они душу твою. Разве не ведомы тебе слова Спасителя, накормившего народ пятью хлебами и двумя рыбами: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят царство божие». Каждый из живущих на земле людей — кроме тех, от кого отвернулся Господь, — в последний миг перед кончиной своей узрит свет небесный и нетленный мир, и сиянием озарится вся жизнь его, и поймет он, что напрасно растратил ее. Одни лишь тогда видят это, другие при жизни постигают единство плоти и духа через благодать, ради коей ты пришел сюда, брат, чтобы обрести мир своей душе. Но ты возжелал снять с себя облачение Христово и уповаешь на богомильскую скверность, что оправдает она тяжкие прегрешения твои. Разбойник Витан ещё не умер в душе твоей, но миро господне жжет тебе сердце и теснит дьявола, понуждая его к буйству…»
Отец Лука распростерся на полу. «Уходи от меня, — говорит. — Ступай, святой отец. Недостоин я, в смраде погряз, напрасно стараюсь исцелиться, не верю и не заслуживаю прощения…» — задыхается, трясет головой. «Подними его, чадо», — сказал святой старец и, когда я приподнял его, перекрестил. «Неисповедимы, — говорят, — дороги к свету, как и дороги ко греху, так что не стану судить тебя, брат Лука. Пусть Христос простит и судит нас обоих. Приходи ко мне, когда пожелаешь. И ты, чадо Теофил, тоже…»
В ту же ночь отец Лука расхворался, помягчел душой. Стал умиленно смотреть на меня, стал смерти ждать. Всю осень ходил я за ним. Тоскует, любит меня, славословит за доброту мою, я же — чувствую — начинаю презирать его… Служил ему, а всё равно что не замечал…
Ныне, когда предстоит мне говорить о Фаворском свете, о скорбной моей тайне и падении, я спрашиваю себя — как найти слова о том, что неизречимо, и молю Господа ниспослать мне их. Но бессильна моя молитва, не осеняет меня благодать, ибо в душе — отчаяние. Одако же терпелив я и не иссякает во мне надежда, что поможет мне Предвечный или хоть сам дьявол, пусть даже навыворот все слова его. Прежде всего расскажу о том, как одной снежной ночью преставился отец Лука.
После того как покаялся мой старец, отслужили благодарственный молебен, отец Лука притащился в церковь из последних сил и с моею помощью. Теодосий самолично окропил его святой водой, усадил с собой рядом, все кандила, лампады и свечи в храме были зажжены — в знак того, что восторжествовал свет. А Евтимий поднес ему дар — краткое житие святого Христофора.
Каждый из нас подобен свече, опутанной куделью страстей и прегрешений, и, когда много их, они заслоняют свет её. Тогда несчастен человек и нет для него радости. В тот день засветился мой старец, оттого что кудель со свечи спала. Плачет от умиления, колотится лбом о холодные плиты. А возвратившись из церкви, лег в изнеможении, но облегченный и гордый собой. Награждайте человека, дабы поощрить к добру, оказывайте ему почести, пусть дьявол изыскивает для него иные приманки. Кому однако ж ведомо, что лучше — спасительная ложь или голая правда? Ибо не может человек долго утешаться ложью, даже наикрасивейшей, он отвергнет её, дабы искать истину… Написал я эти слова оттого, что обожгло меня тогда сомнение, не сотворилась ли над моим старцем великая ложь, быть может, обманули его, дабы сломить земной, богоборческий разум, смирить его и повергнуть к стопам Христовым. И впервые задумался я над человеческим преклонением перед неведомым, над тем, как неведомое обезоруживает волю и мысль ради того, чтобы успокоить дух. Прости меня, Господи, но, коль наделил ты нас разумом, отчего хочешь, чтобы отказались мы от него и уверовали, что неведомое и есть премудрое? Отчего требуешь, чтобы человек преклонял колена перед твоим могуществом, ведь ты сам даровал ему могущество и власть надо всеми тварями и разум, дабы познать тебя? Прячешься от разума, а открываешься в безумии! Или, осудив христиан на гибель, плен и поругание, ты направил их ум к себе, дабы была у них утеха в страданиях? Подобно тому, как трепещет выведенный на позорище, как напрягаются в нем все силы душевные, чтобы встретить муку и смерть, и мечется мысль его, стремясь хоть в чем-то найти опору, так в страшные наши времена агарянских нашествий и разврата власть имущих человек ищет опоры вовне, в царствии божьем, в волшебстве и чародействах. Вооружилась душа, укрепляет себя всевозможными самообольщениями, и, точно факелами, осветились тайны и безрассудства человеческие…
Преставился мой старец в декабре, в первый снег. Днем побелели гора и лавра, усиленно задымили печные трубы, жалобно загоготали над Белицей стаи диких гусей, пытаясь прорвать туман и улететь в Романию, а вечером за поредевшими облаками воссияла луна. И ночь стала светлой, словно белая земля была удостоена серебряного нимба и небесной порфиры. В такую ночь огонь в очаге бывает алым и сладостно согревает келью своим теплом. Мой старец лежал, свесив с топчана ногу. В глазах — умиление и радость. «Пришел мой час, — говорит. — Этой ночью, чадо, преставлюсь я. Позови исповедника, отвори двери, дай мне вдохнуть запах зимы. Завтра облачат меня в белые одежды, и Бог послал на землю снег, чтобы облачить и её. Значит, прощены мне грехи мои и, как знать, не примут ли меня как праведника…» Он не умолкал, вдохновленный надеждой. «Согрей, — говорит, — воды, обмой меня перед тем, как приму я святое причастие».
Я распахнул дверь, он вдыхал снежный воздух и, благочестиво сложив на груди руки, улыбался, похоже, вспоминал о чем-то, происшедшем в такую же запорошенную снегом ночь. Я подкинул дров под таган, на котором стоял большой котел. «Натопи, — говорит, — снега, обмой меня снежной водой», — и отвернулся к стене лицом, чтобы остаться наедине с Господом в последнем своем разговоре на земле.
Пришел исповедник с двумя иподьяконами в мантиях. Остались ждать за дверью. Мы же с отцом Кириллом раздели моего старца. Обмываем его, зажмурившись, дабы не искуситься плотью, но от огня и лампады в келье было светло и, взглянув нечаянно на его спину, я обомлел: она вся была в шрамах от ножа и плети. На правой лопатке — выжженное каленым железом клеймо величиной с яйцо, а в клейме корявыми буквами: «Витан-разбойник, отрок Драгиев». Отец Кирилл читает пятидесятый псалом: «Окропи меня иссопом и буду чист; омой меня и буду белее снега…» А я размышляю, как станет белее снега разбойник, не обманывают ли и его и нас? И, глядя на тощую спину, испещренную страшными знаками, говорил я себе: «Се тело человеческое, истерзанное миром, уходит в утробу земную», — в первый раз пожалел я человека и мученическую плоть его сильнее, чем ныне, когда я видел её посаженной на кол, поруганной, посеченной ятаганом или мечом…