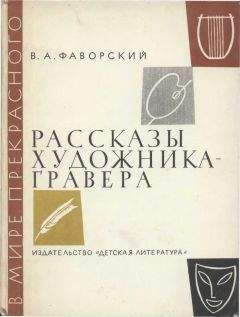Князя Михайлу взяли по приказу великого князя Дмитрия и паки отпустили восвояси; в набегах на Русь виноват Ольгерд; служилым людям воля отъезжать господина своего, так и по Правде, и по обычаю надлежит; в Киеве владыку яли по приказу Ольгердову и мало не уморили в яме, дан тут и поезди, тово! Что касаемо отравы, симонии, поборов или иного чего, то лжа! Батьку Олексея всякой смерд на Москве держит яко отца духовного, и худа об ем не говаривал никто.
С игуменами общежительных монастырей говорили допрежь того, и отповедь была та же самая, и паче того: владыку Алексия разве святым не называли!
Давеча, проходя двором, греки узрели кучками собравшийся народ. Их провожали хмурыми взорами, и кто-то молодо и зло выкрикнул из толпы:
— Нашего батьку Олексея не троньте!
И теперь этот боярин, с которого, как с округлого окатыша вода, соскальзывали все въедливые греческие вопросы, и одно ясно стало для византийских клириков: без сугубого разговора с великим князем ничего здесь не совершишь!
Теперь они ели наваристую и слишком жирную стерляжью уху, разварную осетрину, косились на белорыбицу и севрюжину, нарезанные ломтями, на блюда с моченой брусницей, морошкой, огурцами, капустой… А за рыбной ухой должна была последовать каша из Сорочинского пшена с изюмом, пироги и блины — помогай Бог! Так плотно есть на родине им не приходилось. Григорий Пердикка (его мучили прострел, подхваченный морозной дорогою, и застарелый геморрой, не дающий спокойно сидеть и спокойно думать) ворчал, поругивая и московитов, и настырное ихнее гостеприимство, и тяжесть трапезы, впрочем отправляя в рот стерляжью уху ложку за ложкою. Иоанн Дакиан думал… Рассеянно ел, рассеянно обтирал рушником руки и бороду. Не получалось! Все было так и не так! Решал ли Алексий или кто иной, все одно приходило признать, что решала вся Москва! В Константинополе при таковой оказии уже набежал бы целый двор жалобщиков и хулителей, а здесь: «Батьку Олексея не троньте!» Эко! Он воздохнул. Душою был Дакиан на стороне Алексия и потому сейчас внимательно озирал сердитого и «развихренного» спутника своего, прикидывая, мочно ли станет отклонить хулы, возводимые на Алексия, и не получить в ответ доноса со стороны своего спутника? Занятие обычное у византийцев той поры и еще вполне неведомое русичам — сочинение доносов друг на друга — очень и очень могло навредить карьере. Дакиан любил Алексия, но паче всего любил свой чин, оклад и покой и уходить из патриаршей канцелярии куда-нибудь на Афон рядовым иноком не хотел сугубо.
— Что скажет великий князь! — изрек наконец Пердикка, подымая на Дакиана замутненный страданьями плоти и сытною трапезой взор, и Иоанн быстро и благодарно склонил голову. Что скажет князь! Так, в самом деле, будет спокойнее! А князь, по слухам, не вельми благоволит к старому своему митрополиту…
Греки согласно, едва отведав, отодвинули мисы с кашею и глянули друг на друга. Все-таки многодневный путь сквозь чуждые земли, ночлеги бок о бок, одинокие и часто скудные трапезы, страх разбоев, когда их караван нагоняли дикие всадники на косматых конях, выкрикивая угрозы на непонятном языке, — все это сближало, сблизило обоих синклитиков, и ежели Пердикку не припрет во время оно приступ его болезни, доноса на него, Дакиана, даже ежели они решат оправить владыку Алексея ото всех возводимых на него укоризн, он не напишет… А Пердикка думал с тоскою о том, что теперь надобно выходить за нуждою на мороз, и он бы лучше воспользовался ночною посудиной, поставленной им в келью, но было стыдно перед Дакианом, и потому, когда тот поднялся, дабы выйти на двор, Пердикка с душевным облегчением, даже с любовью, проводил его взором…
А Дакиан вышел на холод, подняв голову, обозрел крупные и близкие звездные миры и, покосясь на толпившийся под воротами народ — и ночью не уходят! — сам зашел за келью, к тому месту, где надлежало справлять нужду. Присел, ощущая одновременно холод и свежесть, запахи снега и дыма с поварни, оправил одежды, невольно, в сумерках, улыбнувшись себе. На Руси ему нравилось, тут были покой и простота жизни, невозвратно утерянные там, на далекой родине, под тяжестью мраморных сводов, среди цветных колоннад, в осаде толпы нищих и попрошаек.
И святость здесь была. Истинная, не напоказ. Вновь, с легким стыдом и душевным сокрушением, напомнилась ему та, давняя, встреча с Сергием, за тайную насмешку над коим был Дакиан наказан мгновенною слепотой. Ни слепоты, ни последующего, совершенного Сергием, исцеления от нее Иоанн Дакиан объяснить себе так и не сумел, но опасливое уважение к русским лесным инокам осталось у него с той поры на всю жизнь.
Он сделал несколько шагов в сторону, остановился у начала тропинки, ведущей в застылый, в инее, монастырский сад. Москва чуть пошумливала в отдалении, заливисто взлаивали псы. Откуда-то, верно с княжеского оружейного двора, доносились звонкие удары по металлу… Ежели кончать жизнь в стенах монастыря, то почему бы и не здесь, не в этой лесной стороне, где жара летом и холод зимой, где ежегодно весною реки выходят из берегов, а небо в ту пору так чисто и сине, как это никогда не бывает на юге!
Он в задумчивости прошел двором в сторону своей кельи. Ухнуло било, отмечая часы. Какая-то старуха, замотанная в плат, в рваном овчинном зипуне, метнулась ему под ноги: «Батюшко!» — он поднял руку для благословения, но старая просила о другом:
— Владыку Олексея не замай, батюшко! Отца нашего духовного!
И он благословил, и обещал, чуть дрогнувшим сердцем, «поступить по истине».
— По истине, батюшко, по истине! — подхватила старуха. — Святой он, батюшко! Ежеден за него Бога молим!
Пердикка, облегченный, уже укладывался спать. Помолясь, потушили свечу, оставив одну лампаду. Тотчас завел свою песню сверчок. Потрескивало дерево. В горнице было жарко. От окна, затянутого бычьим пузырем, тянуло свежестью. Они лежали рядом на широком соломенном ложе, укрытые духовитой овчинною оболочиной, и думали. Пердикка, нашедший наконец удобную позу, уже засыпал, всхрапывая, а Иоанн все думал и думал, составляя в уме осторожные округлые слова в оправдание Алексия. Наконец и он смежил вежды.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Князь Дмитрий узнал о патриарших посланцах от своего печатника Митяя.
Коломенский поп, вошедший в нежданную силу при молодом князе, терпеть не мог старцев общежительных монастырей, в первую голову Сергия Радонежского с его племянником Федором и Ивана Петровского, признанного начальника общежительным монастырям на Москве. Митяй любил вкусно поесть, любил роскошь, любил красоту церковного обихода и пения, был неглуп и премного начитан, и потому паки подчеркиваемая скудота и нарочитое лишение всякого личного зажитка у общежительников претили ему.
Нелюбовь к «молчальникам» переносил он и на Алексия, всячески покровительствующего общежительным обителям. И потому, не задумывая вдаль, был про себя доволен тем, что несносного старца немного укротят прибывшие из Константинополя греки. Чаял, что и князь, многажды недовольный Алексием, будет рад не рад, но благожелательно примет патриарших синклитиков. С тем и шел ко князю.
Но Дмитрий выслушал весть необычайно хмуро и на осторожные Митяевы слова: «Сам же ты, княже…» — резко отверг:
— То я! А здесь — новые происки Ольгердовы! Опять заберет Новосиль. Ржевы мало ему!
Он сорвался с лавки, крупно заходил по покою, не обращая внимания на то, что Митяй, большой, осанистый, стоит перед ним, так и не усаженный в кресло. Дмитрий обернулся наконец, сжав кулаки. Обозрел печатника своего почти враждебно:
— Этот Киприан — литовский потатчик! Ненавижу! Трижды громили Москву. Кого… Ежели… Сами поставим! А про то, что у нас с батькой Олексием, — мне ведать! Не им! Так и передай! Да скажи, греков приму. Опосле. Ступай! — бросил он, так и не посадивши Митяя.
А тот, изобиженный было выйдя от князя, вдруг замер и, густо багровея, начал понимать. Ведь умри, в самом деле, Алексий, — а старик зело ветх деньми! — и кто-то, заместо иноземного Киприана, возможет занять его стол? О столь головокружительной карьере он, беглец, до сих пор еще и не помышлял.
Позже, от бояр, Дмитрий выслушал патриаршую грамоту и паки вскипел, узрев, что рукою обвинителей водил доподлинно князь Ольгерд, сугубо утвердясь в своих прежних подозрениях.
Послание, долженствующее понравиться литвину, и должно было вызвать сугубую ярость Дмитрия, тут Киприан крупно ошибся. Ошибся и в том, что Митяй поддержит его перед великим московским князем. Дмитрий еще и вечером, в изложне, пыхал неизрасходованным гневом, и Евдокия только гладила его, прижимаясь лицом к мягкой бороде своего милого лады.
— Мне Олексий в отца место! Понимать должно! Что он в Литву не ездит? Дак плевал я на то! Мне патриаршьи затеи не надобны. Пущай мой владыко у меня и сидит! И неча о том! И Михайлу ял я! Своею волею! Князь я великий на Москве али младень сущий?