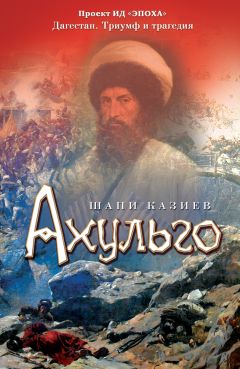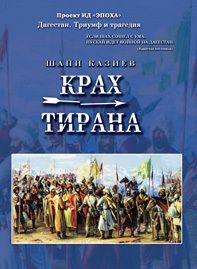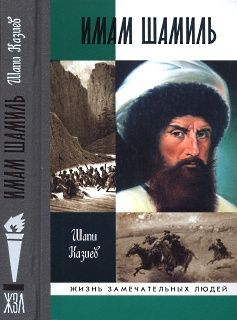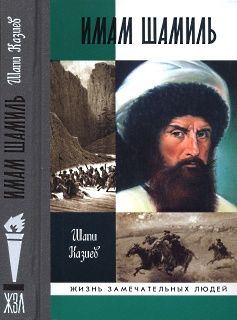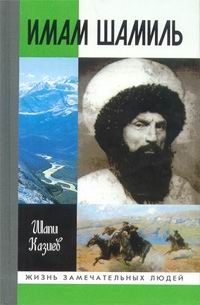Колонна Лабинцева была главной силой штурма, но в дело уже вступали и другие части. Вооруженные лестницами и веревками, солдаты лезли на Ахульго со всех сторон, с которых могли подобраться.
Становясь на плечи друг другу, солдаты карабкались на отвесные каменные стены, вбивали крючья, перекидывали через них веревки, подтягивали лестницы и взбирались все выше и выше. Как и в прошлый раз, на них сыпались камни и пули, но солдаты даже не пытались прикрываться щитами, которые только задерживали движение. Они взбирались на гору, теряя товарищей, но упорствуя в своей решимости подняться на Ахульго. Раненые падали вниз молча, чтобы не вселять страх в остальных, и почти никто не пытался ухватиться за сослуживцев, потому что тогда в пропасть сорвались бы целые ряды их товарищей.
На этот раз отбивалось все население Ахульго, даже старухи явились на поле брани с серпами и косами.
Настал черед и роты Нерского.
– Что, братцы, пошли? – скомандовал Нерский.
– Пожалуй, идем, – отозвались солдаты.
– Что Бог даст, то и будет.
– На людях и смерть красна.
Нерский подтолкнул вперед Аркадия.
– Ну, показывай.
Но Аркадий молча стоял на месте и только мотал головой, обхватив ее руками.
– Тогда уходи, – сказал ему Нерский.
– Живо!
Аркадий будто очнулся, отбежал от роты и скрылся за выступом. Затем огляделся, не преследуют ли его, и кошкой полез по едва заметной тропинке наверх. Но его заметили, и рота бросилась следом. Аркадий поднимался быстро, а преследователи не отставали. С Ахульго их заметили. Едва Аркадий остановился, не находя, куда поставить ногу и за что уцепиться, как сверху полетели глыбы, скатываемые женщинами. Одна из них зацепила Аркадия, он не удержался и, раскинув руки, рухнул на поднимавшихся за ним солдат. Нерский вжался в выемку скалы, и это его спасло. Он с ужасом смотрел, как Аркадий и четверо солдат, ударяясь об острые выступы, падают в пропасть, как новые камни сыплются на его роту, и не знал, что делать. Он уже прощался с жизнью, когда в карниз, нависший над ними, ударило ядро. Взрыв рассеял оборонявшихся и обрушил на роту Нерского груду камней, которые увлекли вниз еще несколько солдат. Но сверху глыбы теперь никто не скатывал. Нерский перевел дух и попытался взобраться дальше, но путь наверх оказался совершенно невозможным, потому что взрыв срезал все неровности, за которые можно было уцепиться. Оставшиеся в живых солдаты подобрались к своему командиру, но подняться выше тоже не смогли, несмотря на все старания. Когда же их заметили со Старого Ахульго и открыли по роте пальбу, Нерскому волей-неволей пришлось искать спасения в ущелье, чтобы не оставить на горячих скалах всю свою роту. И все же рота знала, что старалась не зря. По крайней мере она отвлекла часть обороняющихся, давая больше шансов главному отряду.
Шамиль и его наибы бились наравне с остальными. Женщины воевали рядом с мужчинами, а дети заряжали ружья и подавали их взрослым. Солнце палило так, что трудно было двигаться, но приходилось драться. Лица людей почернели, бороды их были опалены, руки, покрытые кровавыми мозолями, едва могли держать оружие, а волны неприятеля продолжали накатываться. Сам Шамиль уже не понимал, как держатся его люди. В огненном вихре, в дожде пуль и осколков падали горцы и солдаты, но никто не желал уступать.
С нескольких сторон солдатам удалось закрепить лестницы, и они поднимались по ним на головокружительные высоты. Показавшихся над поверхностью горы встречали сабли, косы и надетые на палки штыки. Но следом поднимались другие, и не было им конца. Горцы стреляли по веревкам, на которых держались лестницы, но это не всегда помогало. Тогда оставалось последнее средство – бросаться на них сверху, чтобы перерубить веревки. Смельчаки находились, но не каждому удавалось сбить на лету лестницу. Одну из лестниц попытался сбить раненый мюрид, но его сабля наткнулась на апшеронца. Следом бросилась жена мюрида, но смогла лишь повредить лестницу. Тогда вниз ринулся их сын, сжимая в каждой руке по кинжалу. И лестница рухнула, унося в пропасть множество солдат и самого юношу.
Видя, что творится на Новом Ахульго, на которое Граббе обратил все силы, Омар-хаджи решил послать на помощь имаму остававшихся у него мюридов. Стрельба со Старого Ахульго мало вредила штурмующим, и воины давно просили коменданта отпустить их туда, где шла тяжелая битва.
Среди спешивших к имаму был и Хабиб. По пути он встретил свою жену, которая несла мюридам охапку заряженных ружей. Ребенка, чтобы не оставлять одного, Парихан привязала к спине.
– Куда ты? – окликнула она мужа.
– К Шамилю! – ответил Хабиб.
– И ты иди со мной.
– А как же наш ребенок? – спросила Парихан.
– Это не тот день, когда заботятся о своих чадах, – ответил Хабиб.
– Бери кинжал и сражайся.
Парихан отдала мужчинам ружья, расстелила под камнем свой платок, положила на него мальчика и поцеловала его на прощанье.
– Да сохранит тебя Аллах, сынок мой, – сказала он сквозь слезы и поспешила за мужем.
– Первым делом рубите офицеров! – напутствовал воинов Омар-хаджи.
– А кто это – офицеры? – спросила мужа Парихан.
– Командиры, – объяснял Хабиб.
– С большими значками на плечах. Это они заставляют солдат нападать на нас.
Подмога, явившаяся со Старого Ахульго, помогла горцам удержать свои позиции. Но жертв было слишком много. Среди погибших был и Хабиб. Парихан, стеная, оттащила его от линии огня, надеясь, что он только ранен. Но Хабиб лишь улыбнулся свой жене и устало закрыл глаза. Парихан будто окаменела от горя, но затем, закусив до крови губу, вернулась на позицию и заняла место мужа. Она рыдала и дралась, дралась так, будто жаждала уйти вслед за своим Хабибом.
Когда битва стихла, Парихан вернулась, чтобы похоронить мужа, и увидела сидящего перед ним старика. Это был отец Хабиба. Несчастный Курбан отказывался верить, что потерял сына, которого так старался сберечь. Он шептал его имя, гладил его опаленную бороду и не видел ничего вокруг. Курбан не заметил даже Шамиля, который появился со своими помощниками и остановился, чтобы прочесть над погибшим молитву.
– Хабиб был отважным мюридом, – сказал Шамиль, пожимая руку Курбану.
– Да возвеличит его Аллах.
– Был, – горестно кивнул Курбан, вынимая из рук сына знаменитую двурогую саблю Зулькарнай, которая не сумела спасти Хабиба.
Увидев слезы в глазах старика, Парихан перестала сознавать, что с ней происходит. Она бросилась на Старое Ахульго к своему ребенку. Сына она нашла плачущим от голода и страха. Она схватила ребенка и помчалась туда, где стояли передовые посты неприятеля.
– Стой, куда ты? – кричали ей люди.
– Не ходи туда!
– Она сошла с ума!
– Остановите ее!
Но Парихан уже миновала рубеж, отделявший Старое Ахульго от траншей, которые занимали солдаты. Те не пытались остановить обезумевшую от горя женщину и говорили, отводя глаза:
– Спятила баба.
– Тут и мужик спятит…
– Дела, прости господи…
Парихан шла вперед, в лагерь, пока ее не остановили караульные.
– Стой! – окликнул Парихан стоявший в цепи солдат.
Парихан протянула ему своего ребенка, которого держала на руках. Солдат с подозрением оглядел странную женщину и позвал своего товарища.
– Ленька, смотри, что тут!
Другой солдат подошел к Парихан и спросил:
– Ну? Чего тебе?
Парихан и ему тоже протянула младенца. Солдат растерялся и невольно протянул руки, чтобы принять ребенка. Но Парихан его не отдала и вместо этого похлопала себя по плечу, давая понять, что отдаст младенца только человеку с эполетами.
– Офицера просит, – догадался Ленька.
Парихан закивала, услышав знакомое слово.
Раненый Нерский сидел на камне, а Лиза омывала его ссадины и осушала их смоченной в водке корпией.
– За что нам такое? – причитала Лиза.
– Сколько можно дырявить друг друга, будто не люди, а звери какие?.. Потерпи, Миша… Жив, и слава Богу… Теперь уедем, и провались оно все пропадом!..
Нерский не чувствовал боли, не отвечал на слова заботливой жены… Он лихорадочно думал о том, что у него на руках была рота, а теперь от нее почти никого не осталась. Он вспоминал картины боя и приходил в отчаяние от того, как легко сам обратился в животное, бесстрастно переступал через убитых и не слышал стенаний раненых. Но еще ужаснее было то, что рушились его прежние иллюзии. На тайных собраниях у Пестеля декабристы рассуждали о свободах, но толком ничего сделать не смогли, а горцы не только утвердили у себя свободу и равенство, но и дрались за них насмерть. И у этой кинжальной демократии было совсем не то лицо, какое декабристы рисовали в своих благостных грезах.
– Ваше благородие! – услышал вдруг Нерский.
– Что?.. оглянулся Николай.
– Тут дикарка явилась! – звали караульные.