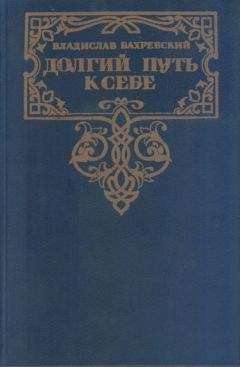Приводил к присяге Хмельницкого, Выговского и всех полковников по чиновной книге архимандрит Прохор.
После присяги в съезжей избе всем присягнувшим выдали богатое государево жалованье, а гетману вручили знамя, булаву, ферязь и шапку.
Уже на следующий день, получив от Хмельницкого роспись всех ста семидесяти семи городов Войска Запорожского, боярин послал в эти города людей своего посольства, чтоб они привели к присяге всех их жителей.
Сам Бутурлин 14 января 1654 года отправился в древний Киев.
Пока посольство жило в Переяславе, полковники по одному, по двое наведывались к царскому боярину, и каждый просил дать ему грамоту на его маетности. И не только просили, но и стращали. Особенно старался Иван Выговский. Пришел он к Василию Васильевичу Бутурлину с войсковым судьей Богдановичем, с Тетерей и еще с тремя полковниками.
— Ты, боярин, приехал от царя с полной мочью, — сказал послу Выговский, — и, значит, можешь дать нам письма за своими подписями о вольностях казацких и о правах на маетности. Иначе полковникам нечего показать в своих полках. Если же ты, боярин, таких писем не дашь, то вашим стольникам и дворянам в города ехать незачем. У людей в городах от вашей присяги будет одно только сомнение. Да и страшно ныне по нашим дорогам ездить. Гетману прислали письма, что татары наступают.
Царский посол, однако, был тверд, и пришлось казацкой старшине положиться на государеву волю.
У старшины свое на уме, у простых казаков свое.
Встретили Бутурлина казаки в десяти верстах от Киева, у кого был конь, тот и поехал.
Перед Золотыми воротами за городским валом посольство приветствовали киевский митрополит Сильвестр Косов, черниговский епископ Зосима, печерский архимандрит Иосиф Тризна. Речь посольству говорил сам митрополит. И сказал он:
— Целует вас в лице моем он, Владимир, великий князь русский, целует вас светлый апостол Андрей Первозванный, целуют вас Антоний и Феодосии, преподобные отцы печерские. Целуем и мы со всем освященным собором. Целуя и любя, взываем: войдите в дом Бога нашего на наследное седалище благочестивых великих князей русских!
Красиво говорил Сильвестр Косов. Сам отслужил молебен в Софийском соборе, но даже с лица спал и посерел, когда московский боярин спросил его, как школяра:
— Гетман Богдан Хмельницкий и все Войско Запорожское многажды били челом великому государю, чтобы принял их под государеву высокую руку, а ты, митрополит, почему никогда челом государю о том не бил, писем не писал и царской милости себе не поискивал?
— О челобитиях гетмана и всего Войска Запорожского я не ведал, — ответил через силу митрополит. — Ныне же за государево многолетное здоровье и за государыню царицу и за благоверных царевен я должен Бога молить.
И уже на следующий день Сильвестр Косов выказал свой характер и свое отношение к Переяславской раде.
Бутурлин приводил к присяге киевских казаков и мещан. К митрополиту поехал стольник Кикин, а в Печерский монастырь к архимандриту Иосифу Тризне подьячий Плакидин. Московский посол просил прислать для приведения к присяге шляхту, слуг и дворовых людей, которые у них живут.
— Шляхта и дворовые люди служат мне и живут с того, что я даю. Царскому величеству им присягать не годится, — ответил Кикину митрополит, а Тризна, прежде чем дать ответ, решил посоветоваться с Косовым.
Пришлось к митрополиту послать думного дьяка Лариона Лопухина. Лопухин припугнул Косова государевым гневом.
— Шляхта и дворня — вольные люди, я не пошлю их к присяге! — ответил митрополит, рассердясь.
— Зачем ты учиняешь раскол? — спросил его Лопухин. — Упорство твое, митрополит, не дельное. Поезжай к ближнему боярину Василию Васильевичу Бутурлину и объяснись.
— Шляхту и дворовых людей я к присяге не пошлю, с боярином вашим мне говорить не о чем! — не помня себя от ненависти, закричал на думного дьяка Косов.
Ларион Лопухин, не благословясь, тотчас уехал от митрополита.
Косов метался по своему дому, обижая в неистовстве ни в чем не повинных перед ним слуг своих. Он, киевский митрополит, отныне попадал под власть московского патриарха. Он — шляхтич — должен был теперь служить московскому царю!
— Проклятый Хмель! Проклятый, проклятый, проклятый Богданище! — кричал киевский богомолец, стоя перед святыми иконами.
Но что было ему делать, Сильвестру Косову? Он не хотел потерять удобств и преимуществ той жизни, какие давал ему его сан.
Проманежив московских бояр еще один день, Косов послал-таки на присягу своих шляхтичей и слуг, а печерский архимандрит Тризна последовал его примеру.
1
— Коли мужу моему, хозяину дома, все недосуг до тебя, так ты и полез двумя копытами в чужое корыто. А ну нагнись, негодник! — С этими словами пани гетманша, приподнявшись с кресла, ухватила управляющего за оселедец да и треснула лбом о стол своей милости. — Не обманывай того, кто хлеб тебе дает! Не почитай себя умником! Не все, не все вокруг тебя дурни, не все!
И, треснув изумившегося управляющего столько раз, сколько ей, пани гетманше, показалось в меру, она отпустила его и сказала вполне примирительно:
— Кирпич стоит вдвое дешевле, чем ты насчитал, лес втрое. Стены класть зимой не смей, от такой кладки только сырость в дому разводить. Покуда зима, завези по крепкой дороге все, что надобно для стройки, а по весне собери артельщиков — да самых лучших! — и с Богом, строй. Я за вашей работой сама пригляжу. Ступай!
Управляющий, кланяясь, попятился к дверям, но пани гетманша подняла вверх пальчик и сказала, пальчиком погрозив:
— Застану еще раз в воровстве, отдам тебя в науку моим джурам.
Джуры у пани гетманши потолки головами ненароком прошибали. Управляющий упал на колени и, перебежав на четвереньках комнату, поцеловал у пани сапожок, жемчугом да золотом расшитый.
Едва управляющий исчез, как дверь кабинета снова распахнулась, и вошел сам гетман. Он хохотал:
— Ну и настращала же ты беднягу!
— Заворовался совсем, вот и пугнула! — призналась Анна Филиппиха.
— Когда брал тебя в жены, говорили мне: галушки у нее больно добрые. А ты чистый гетман в юбке.
— Живу так, чтоб твоего гетманского достоинства не уронить, — ответила мужу Анна. — Вот погляди, хорош али дурен мой универсал?
Дала прочитать жалованную грамоту Густынскому монастырю, в которой от своего имени приказывала не тревожить земель, дарованных монастырю Иеремией Вишневецким.
Богдан прочитал ладно составленный документ, вздохнул.
— В хату хочется, галушки горячие есть.
— Сказано — сделано! — Проворная супруга поднялась из-за стола, взяла мужа под руку, и уже через час, прокатившись на санках, запряженных парою лошадей, были они за рекой, на пасеке.
Сторож-пасечник натаскал для печи побольше дров на случай, если гетману с гетманшей придет охота на огонь поглядеть, и отправился спать в баню.
— Вот и одни, — сказал Богдан, закладывая дверь тяжелым засовом. — Не упомню уже, когда сам по себе был.
Печь стреляла сухими дровами. Анна, в домотканой простонародной свитке, сверкая голыми по локоть руками, двигала ухватами. Она привезла-таки с собой настряпанных галушек и теперь ставила их в печь. Богдан и не заметил, когда и кому жена о том приказывала. И ведь какая умница! Галушки раздобыла самые простецкие, о каких и помечтал, затосковав, Богдан.
Да только простая одежда и простая еда душу враз не опрощают.
— Иван, брат мой старший, человека ко мне сегодня присылал, — вспомнила за трапезой Анна. — К Богуну поляки зачастили.
— Богун всегда особняком держится, — сказал Богдан, — только к полякам он не переметнется. Я знаю: мне он давно не верит, но уж и то хорошо, что я верю ему.
— Иван, братец мой, пишет в письме, что из пушек русских стрелял. Очень, говорит, меткие пушки. Турецких и польских много лучше. Пишет, чтоб ты, коли случится, просил бы у царя побольше пушек.
Богдан, подперев щеку рукою, смотрел на жену до тех пор, пока не встретился с нею глазами. Она радостно вспыхнула, зарделась. Тотчас встала и, погасив свечу, повела супруга спать.
Не спалось Богдану в ту ночь.
В окошко глядела ясная луна. Окно в лесной хате было всему Чигирину на удивление — из стекла.
«То Елена постаралась», — подумал Богдан, выбираясь осторожно из-под одеяла.
Он сел возле окошка. Мороз разукрасил его снизу острыми листьями ледяного чертополоха.
«Вот и вся память о человеке, — подумал Богдан о Елене и еще подумал: — А ведь я бы простил ее. Все бы ей простил».
Покосился на кровать. Анна ему тоже была дорога.
«О брате печется… Так ведь два у нее брата, а печется о том, кто много стоит. Наказным гетманом его пошлю».